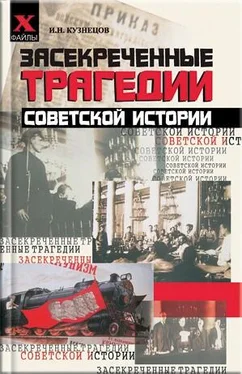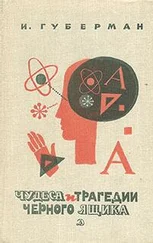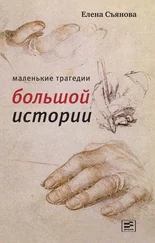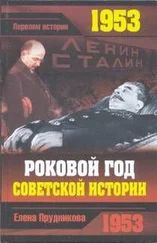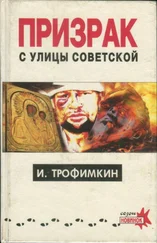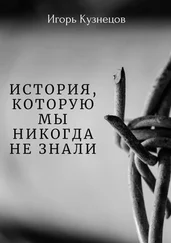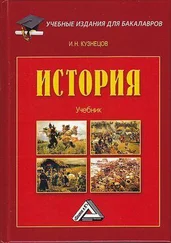Подобная неопределенность в советско-финляндских отношениях продолжалась до конца августа 1939 г.
В секретном протоколе, приложенном к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 г. было зафиксировано, что «в случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР». Это означало, что секретный протокол предусматривал возможность «территориально-политических изменений» в пользу Советского Союза.
Еще в ходе боевых действий в Польше директивами наркома обороны маршала К. Е. Тимошенко и начальника Генерального штаба командарма 1-го ранга Б. М. Шапошникова от 11 и 14 сентября 1939 г. Военному совету Ленинградского военного округа было приказано произвести сосредоточение войск на случай войны с Финляндией. Авиация была рассредоточена на полевые аэродромы в полной боевой готовности. Тогда же в оперативное подчинение командующего ЛВО поступила 7-я армия. В составе округа была сформирована Мурманская оперативная группа, которая с 15 ноября была переименована в 14-ю армию.
Вернемся к событиям 30 ноября 1939 г. Ведь тогда, в то морозное утро, на границе с Финляндией начался не просто «военный конфликт», а настоящая война со всеми ее специфическими признаками. Она продолжалась 105 дней. В ходе боев со стороны Финляндии были задействованы практически все ее вооруженные силы: 10 дивизий, 7 специальных бригад и военизированная организация шюцкор — всего около 400 тысяч человек.
С нашей стороны в марте 1940 г., в период наибольшей концентрации войск, в активных действиях участвовали 52 стрелковые и кавалерийские дивизии, несколько десятков отдельных бригад и полков, входящих в специально сформированный Северо-Западный фронт (две армии) под командованием командарма 1 ранга С. К. Тимошенко, и кроме того, три армии, которые действовали от Ладожского озера до Баренцева моря.
Сухопутные войска поддерживали корабли Краснознаменного Балтийского и Северного флотилии. Численность этой крупной группировки сухопутных войск, ВВС и сил флота составляла около 960 тысяч человек. По боевой технике Красная Армия имела тройное, а по танкам и авиации — абсолютное превосходство.
Тимошенко против Маннергейма
Итак, выбор был сделан, и «вынувший меч да не устрашится».
Впрочем, никто особенно не страшился. Ни комбаты, снисходительно разглядывавшие в стереотрубы убегавшие на том берегу Сестры в сосновые боры жиденькие цепочки финских дзотов, ни люди с шитыми золотом звездами в тиши кремлевских кабинетов. Ими финская пехотная армия не принимались за достойного противника.
Если верить воспоминаниям очевидцев, Сталин был настроен сердито и одновременно насмешливо. Разработка плана кампании была целиком передана в штаб Ленинградского военного округа. «Великий полководец» счел, что у генштаба в то время были заботы куда важнее, чтобы отвлекать его на подобную мелочевку.
Так же директивно было запрещено привлекать к операции дивизии внутренних округов, а общее поражение планировалось нанести за 9–12 дней. Вселял уверенность высокий боевой дух войск, развернутых на финской границе, преисполненных решимости «преподать урок зарвавшимся белофинским бандитам» и оборонить колыбель революции.
Река Сестра. Двадцать два года эта тихая река носила неведомый ей до того титул государственной границы. 30 ноября она сложила его, став просто одной из сотен мелких карельских речушек.
Здесь, на Карельском перешейке, наша 7-я армия, наиболее сильное и боеспособное объединение Ленинградского военного округа, с успехом перешла в наступление. Финская пехота отходила, уклоняясь от крупных боев. Редкая сеточка проселочных дорог, убегавшая в глубь страны, на северо-запад, отныне стала называться в оперативных сводках направлением главного удара.
Надо заметить, что над планом финской кампании, видимо, по уже оговоренным выше причинам, в штабе думали недолго. Он был прост и незамысловат, как штык «трехлинейки».
При разработке плана во главу ставилось то обстоятельство, что кратчайший путь по карте от государственной границы до Хельсинки пролегал именно здесь, по побережью Финского залива.
Можно задаться логичным вопросом: почему не бралась в расчет упрятанная в межозерье и непроходимых болотных топях обширнейшая система мощных финских укрепрайонов, эшелонированная в глубину на многие десятки километров, которая наглухо перекрывала путь в глубь страны? Более известная как «линия Маннергейма», она, по оценкам специалистов, ни в чем не уступала имевшимся мировым аналогам, в частности, немецкой линии Зигфрида и французской линии Мажино. Так почему же для главного удара было выбрано это, гиблое во всех отношениях направление?
Читать дальше