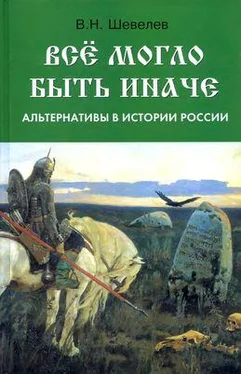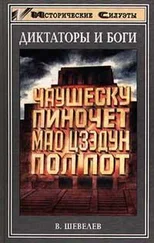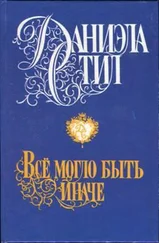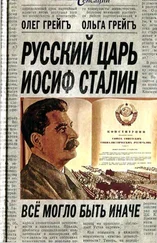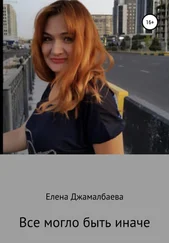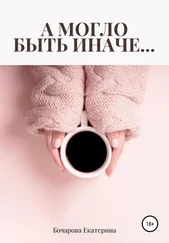Философ в поэзии и поэт в философии, Бродский говорил с читателем о смысле жизни и смерти, о сути мироздания, о величии и низости человека, и разговор этот строился в расчете на Вечность. Как тут не вспомнить философа Кьеркегора: «Что такое поэт: несчастный человек, носящий в душе тяжкие муки, с устами, так созданными, что крики и стоны, прорываясь через них, звучат как прекрасная музыка».
В середине 1950-х гг. ворвался в мир поэзии Андрей Вознесенский. Уже вскоре стало ясно, что это автор, бросающий вызов шаблону, гладкописи, лакировке. Поэт стремился противостоять стандартности, серости, стереотипу мышления. Тем самым он нес свою альтернативу.
Вознесенский постоянно прибегал к гиперболе, гротеску, игровому моменту. Чтобы представить современность во всей ее сложности, в ее прямых и обратных причинно-следственных связях, поэт разрывает обычный любительский «снимок», превращает его в «негатив» и тем самым добивается эффекта новизны, необычности всего случившегося на глазах поэта и, следовательно, достоверного по сути своей.
Новые стихи Вознесенского рождались на стыке противоположностей: душевных, интонационных, поэтических, временных. Он осознал этот внутренний перелом, чреватый последствиями, неизвестными самому художнику, и все-таки благословляемый им: «Мир пиру твоему, земная благодать, мир праву твоему меня четвертовать». И даже свои стихи Вознесенский подчас читал, как бы ломая слова пополам, — первые слоги почти на крике, в конце — полушепотом.
Свой альтернативный мир творил и молодой Евгений Евтушенко. В середине 50-х гг. за ним закрепляется звание наиболее последовательного выразителя умонастроений молодого поколения. Яркое поэтическое дарование, новизна тематики, желание эпатировать слушателей и читателей были замечены сразу же. Его творчество получило широкое признание и вместе с тем постоянно вызывало дискуссии и полемику.
Евтушенко смело брался за решение сложных и острых проблем своего времени в тот момент, когда о них наше общество только-только начинало задумываться. Поэт ощущал и выражал носящиеся в воздухе перемены, нередко поражая четкой выявленностью своих симпатий и антипатий. Читатель постоянно слышал индивидуальную интонацию автора, его искренность и напористость, ощущал активность позиции.
Полемический вызов, который Евтушенко уже в начальный период своей поэтической деятельности бросал идеологическим и пропагандистским постулатам сталинизма, тревожил официальную критику и власти. Яростное неприятие «охранителей» встретила его «Автобиография», напечатанная во французском еженедельнике «Экспресс» в 1963 г. Участники проходившего в то время пленума правления Союза писателей хором обвиняли молодого поэта в идейном ренегатстве, в клевете на советский строй и советскую литературу.
Широко известны были его акции в поддержку преследуемых талантов, в защиту достоинства литературы, свободы творчества, прав человека. Многочисленные телеграммы и письма протеста против суда над Синявским и Даниэлем, травли Солженицына, советской оккупации Чехословакии, правозащитные акции заступничества за репрессированных диссидентов — генерала П. Григоренко, писателей А. Марченко, Н. Горбаневскую, З. Крахмальникову, Ф. Светова, поддержка Э. Неизвестного, И. Бродского, В. Войновича. Во многом именно это имели в виду председатели КГБ В. Семичастный, заявивший, что Евтушенко «опаснее десятка диссидентов», и Ю. Андропов, сигнализировавший в Политбюро ЦК КПСС об антисоветском поведении поэта.
Его «Бабий Яр» (1961), «Наследники Сталина» (1962), «Танки идут по Праге» (1968), «Афганский муравей» (1983) — вершинные явления гражданской лирики Евтушенко. Стихотворение «Наследники Сталина» не только закономерно венчало «антикультовские» раздумья молодого Евтушенко, но и перебрасывали мостик в середину 1980-х, которыми датированы стихи, знаменующие последний и окончательный расчет со сталинистским прошлым: «Похороны Сталина», «Дочь комдива», «Еще не поставленные памятники», «Вдова Бухарина».
Воссоздавая обобщенный портрет молодого современника, Евтушенко творил собственный портрет, вбирающий духовные реалии как общественной, так и литературной жизни. Ключевые полярные понятия неправды и правды — времени, судьбы, искусства — становились при этом опорами гражданской позиции поэта как позиции социально активного действия.
Приход в литературу Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко позволил критике взглянуть на них, как на единое поколение, увидеть общность их первоначальных идейно-художественных задач, выявить сильные и слабые стороны их позиции.
Читать дальше