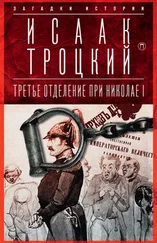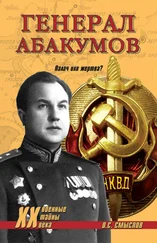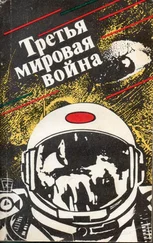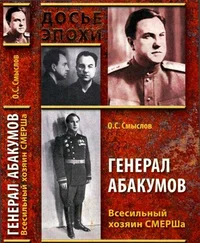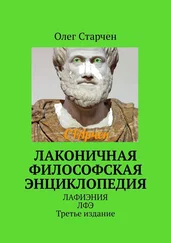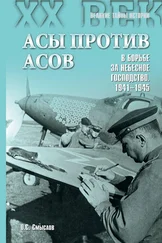Народная молва продолжала конструировать вероятные практики типового, житейского поведения, повторяя слух, «что за 15 целковых секретно показывает себя совершенно нагая». Как и предполагалось, началось копирование узнаваемых элементов звериного облика: «Слышно, что уже появились здесь чепчики и другие головные дамские уборы a la Pastrana» и продаются «особенно крепкие мексиканские папиросы» с ее портретом с папиросою в руке [852].
Терпимое, ироничное отношение к заблуждениям низов сменилось раздраженным порицанием увлечения высших кругов нелепым чудом. В докладной записке от 20 мая 1858 г. указывалось: «Здешняя молодежь с иностранных контор и сынки наших богатых, но необразованных старинного века купцов, как известно, всегда любят щеголять безобразною густою своею бородою и корчить каких-то лордов. Теперь же с приездом сюда Пастраны замечают, что жалкая эта страсть перешла к многим нашим аристократам из военного и гражданского звания, кои один перед другим тщеславятся тем, у кого лицо безобразнее другого, что они с самодовольством называют a la Pastrana» [853].
Городские слухи, заботливо собираемые стражами порядка, зачастую опровергали сами себя. Недоверие к ним основывалось на элементарном здравом смысле. Так, ложность слуха о том, что Пастрана показывает себя нагой, «многими оспаривается тем, что полиция не допустила бы такого соблазна». За разрешением загадки («действительно ли она обезьянного рода») обращались якобы к каким-то медикам («будто бы это можно только доказать, если она имеет нечто подобное хвосту»). По их заключению Пастрана не имеет хвоста и вообще «чрезвычайно стройная женщина» [854]. Обозреватель «Библиотеки для чтения» резонно замечал: «Нас удивляет одно: как до сих пор не объяснят верно и удовлетворительно происхождение этого, в самом деле замечательного явления? Неужели так трудно добраться до истины?» [855]Такого рационального подхода явно не хватало для разрешения недоумения и снятия ажиотажа. С другой стороны, этот коммерческий проект держался именно на «загадке» Пастраны, и пригласивший ее голландец Юлиус Гебгард всячески поддерживал ауру таинственности.
Совершенно ничтожное по значимости событие столичного мира развлечений так долго волновало Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, думается, в силу нескольких причин. Представленный образ «мисс Юлии Пастраны — девицы из Мексики, с усами и бородой» [856]вполне укладывался в исконные, демонические представления простого народа о Западе. Явное или подсознательное признание цивилизаторской миссии Европы и догоняющего характера развития российской цивилизации предполагало рефлекторную, маскирующую ущербность реакцию иронии, высмеивания, обращенную на далеко не лучших представителей западной культуры. Пастрана была неплохим средством для ее дискредитации. Один из современников писал: «На афише она представлена подбоченившеюся и танцующею в коротеньких юбках, надутых кринолином» [857].
Образ «обезьяны в кринолинах» нес и сатирическую нагрузку, высмеивая повальное увлечение высшего света этой французской модой. Высокая цена билетов делала это зрелище элитным [858], создавая в народном сознании почву для новых антизападных мифологических построений. Активировать эти настроения руководство Третьего отделения считало нежелательным. Поэтому сведения о намерении везти Пастрану в Москву и на Нижегородскую ярмарку сопровождались на полях сводки заметкой управляющего Третьим отделением А. Е. Тимашева: «…появление ее в Москве и Нижнем произведет неприятное впечатление» [859]. В большей степени полиция, конечно, следила за политическим подтекстом массовых зрелищ. Показательна и первичная информация, и заключение профессионалов политического сыска по поводу одной из афиш (март 1858 г.): «Агент списал с вывески балагана на адмиралтейской площади: „Восковая большая картина предстающая голову отсечение преступников которые поси гали на жызень Французского Императора Наполеона“. Кажется, что не только эта надпись, но и представление, о коем она говорит, совершенно неуместно как забава для нашего народа, которому нет надобности знать о посягательстве на жизнь Государя» [860].
Особое отношение у блюстителей общественной нравственности и спокойствия было к театрам. По цензурному уставу 1828 г. на Третье отделение была возложена цензура драматических сочинений как на русском, так и на иностранных языках. Подобное обособление сценических произведений от общей цензуры, предполагавшее более пристальное внимание, можно объяснить особым эмоциональным воздействием театра на публику.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Абакумов Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] обложка книги](/books/27001/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven-cover.webp)