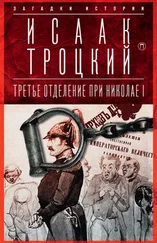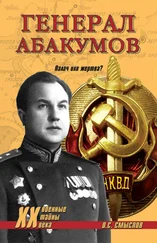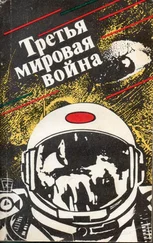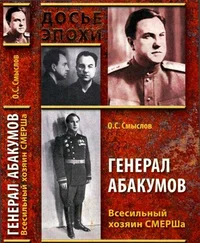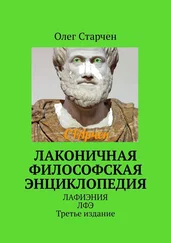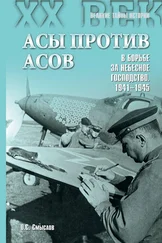Собственного вкуса и убеждения в правоте взглядов было достаточно для принятия административного решения. 11 мая 1850 г. Л. В. Дубельт докладывал шефу жандармов А. Ф. Орлову о рассмотрении в цензуре двух пьес. Первая, «Облака и солнышко», «есть жалкая, безграмотная компиляция и пародия на достославную нашу отечественную войну», комедия «Светские люди» «описывает людей большого света весьма с невыгодной стороны». «Первую из этих пьес я запретил по ее безграмотности, вторую — по ее неприличию» [1082], — сообщал Л. В. Дубельт. Занимаемая должность обеспечивала такое понимание высших интересов государства, которое позволяло преодолевать ограничения Цензурного устава.
Субъективный контроль цензуры не мог остановить репрезентации жизни на театральной сцене. Массовый наплыв в цензуру низкопробных, вульгарных произведений — это тот тренд, который отражал новые реалии эпохи. Неформатная жизнь, семейные тайны, девиантные практики из полумрака выходили на освещенную сцену.
Насколько успешной оказалась деятельность Третьего отделения по нравственному контролю и опеке русского общества? Победить пороки и исправить нравы явно не удалось. Да и недостатки жандармской службы были хорошо видны современникам. Одни — были системными, другие — личностными. В записке, представленной императору Николаю I в апреле 1841 г. Н. Кутузовым, отмечалось, что распространение влияния жандармов на дела не только политические, но и гражданские, семейные «усилило еще более неправду и злоупотребления, поелику жандармы те же люди, с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все живущие под луной, потому-то умели овладеть ими и красотою женскою, и приманкою обогащения, умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями». Автору показалась уместной аналогия с фискалами Петровской эпохи, с помощью которых царь думал остановить неправосудие и казнокрадство, но они «соединились с бессовестными людьми и с неправыми судьями и увеличили зло до безмерности» [1083].
Неясный правовой статус Третьего отделения, таинственность полномочий жандармов, негласный характер надзора, секретность административных действий, дополненные представлением обывателей о повсеместном проникновении агентов даже в частную жизнь, — все это дискредитировало благую цель учредителя. Великий князь Константин Павлович спорил с А. Х. Бенкендорфом: «Вы говорите мне, что по одному обвинению жандармского офицера никто еще не был преследован и наказан и что на их донесения смотрят как на простые указания для открытия истины путями законными. Я с вами в этом совершенно согласен; но за то, согласитесь, что всякий обыватель знает, вообще какое призвание жандармов, знает, что они надзирают за всем порядком и обязаны доносить своему начальству о всяком дурном действии или нарушении, какое только заметят или услышат. Вот почему их боятся, а потому все сословия более ли менее избегают их. Публика же решительно не знает, какой ход имеют их донесения и какие последствия» [1084]. Процитированный Константином Павловичем аргумент А. Х. Бенкендорфа очень показателен: жандармский контроль воспринимался создателем системы надзора как альтернатива гласности: вскрывать недостатки мог только уполномоченный на то государством чиновник, а не рупоры общественного мнения.
Другой брат императора, великий князь Михаил Павлович, тоже не был в восторге от действий носителей голубых жандармских мундиров. М. А. Корф 15 ноября 1838 г. записал откровения Михаила Павловича. «Должен признаться, — сказал он иронически, — что у меня большая слабость и особенное почтение к этому прекрасному сословию небесного цвета». Критический настрой касался именно нравственных критериев отбора для службы: «Понимаю, что если бы в жандармы можно было набирать все ангелов или, по крайней мере, святых, то это учреждение было бы истинно полезно; но мы видим, что туда, напротив, стремится всякий сброд, и никак не поверю, чтобы человек мог переродиться и сделаться надежным ценсором и блюстителем моих поступков потому только, что на него наденут голубой мундир». Любопытно, что высказано было именно теоретическое суждение о миссии корпуса и ее применении на практике. Конкретных примеров порочного поведения жандармов великий князь не привел.
Реализация благого замысла наталкивалась на человеческий фактор. «Многим из штаб-офицеров, поступивших в жандармскую команду, было любо жить в губернии, совершенно независимыми, без всякого постоянного, определенного занятия и для всех быть грозою. От самых неблагонамеренных людей, изгнанных из общества, принимали они изветы и с своими дополнениями отправляли в Петербург. Если по следствию окажется, что их донесения ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться и не подлежали никакой за то ответственности. И где было искать защиты против них губернским начальствам, а кольми паче частным людям, когда и сам глава их Бенкендорф некоторым образом поставлен был надсмотрщиком над другими министрами?» — вопрошал Ф. Ф. Вигель [1085].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Абакумов Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] обложка книги](/books/27001/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven-cover.webp)