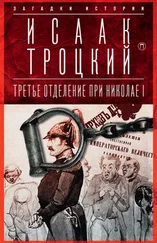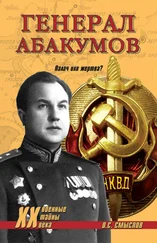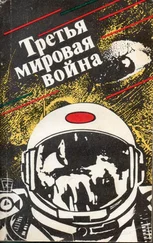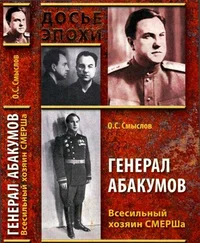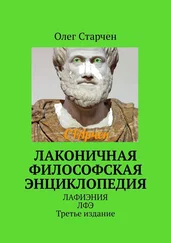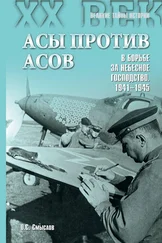Вновь процитирую П. С. Федорова, хорошо знавшего внутреннюю жизнь, «кухню», жандармской цензуры: «Она [драматическая цензура Третьего отделения] как будто заподозревает каждое выражение, видит во всем скрытый намек, боится всякой дельной мысли, каждого слова со смыслом, держится того порядка, в котором даже простой намек на правду и действительность считается неприличным и заставляет драматических писателей ограничиваться наивными допотопными сентенциями и пустяками. Ценсура, в лице одного цензора, становится решительницей судеб драматического искусства в России. В общей цензуре для печатных произведений есть апелляция; в цензуре театральной ее нет. Приговор одного лица цензуры театральной свят, ненарушим и непогрешителен. За что пьеса запрещена? Почему позволена? Неизвестно. Цензуре не нравится выражение, она его переменяет; не нравится развязка, она заставляет переделывать ее, часто во вред идеи и здравого смысла; не нравится сцена, она запрещает всю пьесу! В приговорах театральной цензуры трудно отыскать последовательность: она ее знать не хочет…» [1045]
В пьесе «Le paletot brun» («Коричневое пальто») (1859) цензора «неприятно поражает не только любовная связь женщины высшего круга, но и то легкомыслие, с которым графиня меняет своих любовников» [1046]. Пьеса А. Александровой «Женщина. Современный этюд» (1861) «проповедует полную, соблазнительную свободу чувств и поступков в супружеской жизни, утверждая, что если муж делается неверным жене, то и последняя имеет право искать вознаграждение в любви к постороннему». Пьеса была запрещена, так как изложенный в ней взгляд на семейную жизнь «противоречит всем правилам нравственности» [1047].
По признанию чиновника Третьего отделения А. К. Гедерштерна, император Николай I не желал видеть на сцене всего того, что «женский пол не может смотреть не краснея» [1048], и цензоры должны были руководствоваться этим критерием нравственного допуска, ставшим вневременной заповедью цензуры.
В свое время М. А. Гедеонов полагал, что многочисленные французские переводные пьесы «не в духе русской публики, не свойственны ей и почти непонятны» [1049]. Большое число французских пьес, поступавших в театральную цензуру, как раз свидетельствовали об обратном, указывали на то, что запрос на такие постановки был, а цензоры хорошо понимали, какие сюжеты возможны на русской сцене.
В категорию безнравственных попали пьесы: «Les pupilles de dames Charlotte» (изображена незаконная любовь брата к сестре), «Les chansons de Dejasier» (муж и жена перебраниваются лежа в постели), водевиль «La baigneuse ou la nouvelle Susanne» (цензор считал, что ни один зритель не выдержит представления не краснея, так как в пьесе «девушки поднимают платья и спорят о красоте своих икр, а мужчины без исподнего платья ходят по сцене») [1050]. Одну из пьес пропустили после исключения первой сцены, в которой молодой человек покидает свою прелестницу после ночного свидания, а название невинного фарса «Suites du premier lit» цензор предлагал заменить на «Suites du mariage», правда, Л. В. Дубельт разрешил постановку с первым названием [1051].
Реагируя на запрос публики, цензура стала более «широкой и снисходительной» к изображению пороков и страстей. Зачастую чиновная резолюция касалась не частей текста, а характера исполнения ролей. Одна из французских пьес была разрешена с условием, что «при раздевании актеры не будут снимать панталон, что, впрочем, не помешает веселости фарса» [1052].
В заключении цензора относительно пьесы «Voyage autour de ma marmite» отмечалась предосудительность главного сюжета — «желания Альзеадора удовлетворить чувственную страсть», что полагали «слишком щекотливым и даже неприличным» [1053]. По той же причине было остановлено продвижение на сцену пьесы «Eunuques et Odalisques», даже после того, как «неприличные выражения, начиная с самого заглавия, были частию уничтожены, а частию заменены более приличными» [1054].
Пьеса «Clarisse Harlowé» (граф Ловлас притворяется влюбленным, похищает девушку, «поит ее сонным порошком и пользуется ее усыплением, чтобы достигнуть своей цели») представляла собой «разврат во всей его наготе» [1055]. Относительно произведения «Il le faut» делался вывод, что «основание этой пьесы ложно и предосудительно: автор заставляет молодую и совершенно невинную девушку сознаться в падении, которого не было» [1056]. Аморальные суждения звучали и в пьесе «La fille du diable». Дьяволина желает освободиться от греховного проклятия своего порочного рождения и стать простой смертной, но для этого ей надо сохранить невинность до 18 лет, «что между людьми, по мнению сатаны, совершенно невозможно» [1057].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Абакумов Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] обложка книги](/books/27001/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven-cover.webp)