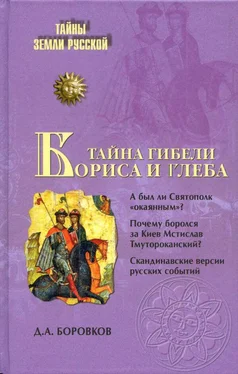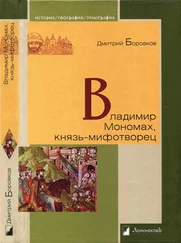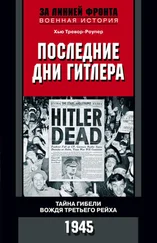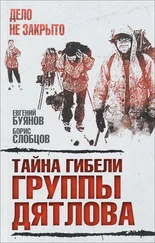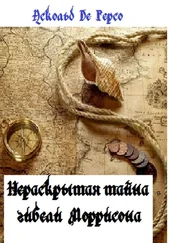Итак, есть основания утверждать, что составитель «Анонимного сказания» в 70-х гг. XI в. искал аналоги событиям 1015–1019 гг. в античной истории эпохи утверждения христианства. В 1080-е гг. по этому же пути последовал составитель «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба» и лишь позднее, на рубеже XI–XII вв., «древнерусские интеллектуалы» стали искать их в «священной» библейской истории {201} 201 Петрухин 2002. С. 113.
. Не располагая достоверной информацией об обстоятельствах смерти князя, кто-то из летописцев придумал легенду о том, что Святополк погиб в «пустыни межи Ляхы и Чехы» и что могила его сохранилась «до сего дне».
Интересно, что в летописании XVI в. эта фраза встречается в измененном виде. Как сообщает Никоновская летопись: «Есть же могила его в пустыни и до сего дни, исходит же из нея смрад зол, ибо разседшися земля пожре его». Примерно так же выразился составитель более раннего «Хронографа» начала XVI в.: «И разседшися земля пожъре его межи Чахи и Ляхи» {202} 202 ПСРЛ 9. С. 76. ПСРЛ 22. С. 368.
. Надо полагать, что к тому времени указание на то, что Святополк скончался в «пустыни» (или, как полагает Б. А. Успенский, «в пустом месте»), уже не могло удовлетворить читателя, поэтому в текст было внесено дополнение, согласно которому Святополка поглотила земля.
Наряду с теми «сценариями» междукняжеской борьбы за наследство Владимира Святого, которые сложились в ПВЛ и «Анонимном сказании», существовала еще одна интерпретация этой династической коллизии, сформулированная автором «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба» печерским монахом Нестором.
С начала XIX в. существуют две историографические традиции, представители одной из которых склонны видеть в Несторе-агиографе и Несторе-летописце одно и то же лицо, в то время как представители другой видят в составителе ПВЛ и авторе «Чтения» разных исторических персонажей, так как их концептуальный подход к таким фундаментальным вопросам, как например, распространение христианства в Русской земле, имеет значительные отличия.
В историографии утвердилась датировка «Чтения», предложенная А. А. Шахматовым (1081–1088 гг.) {203} 203 Шахматов 2002. С. 58.
. Альтернативная датировка С. А. Бугославского (1108 г.) является маргинальной {204} 204 Бугославский 2007. С. 285–286. Черепнин 1948. С. 311–312. Кузьмин 1977. С. 155.
. Поддерживая гипотезу П. В. Голубовского о том, что общим источником «Анонимного сказания» и «Чтения» могли быть записи Вышегородской церкви, Шахматов отрицал существование протографа «Чтения», мотивируя это тем, что «Нестор дал бы более совершенное произведение, если бы у него были предшественники» {205} 205 Шахматов 2002. С. 48.
. В то же время исследователь находился в убеждении, что Нестор заимствовал факты для своего труда не только из Вышегородских записок, но и из Древнейшего Киевского свода {206} 206 Там же. С. 80–81, 317–319.
. С его точки зрения, «Чтение» зафиксировало первоначальную редакцию летописного сказания из Древнейшего свода, где отсутствовал целый ряд конкретных деталей (место гибели Глеба, место гибели Бориса, имя Георгия «угрина», слуги Бориса и т. д.), появившихся в тексте Начального свода из «Жития Антония Печерского» {207} 207 Там же. С. 76–77, 185–186.
.

По мнению Шахматова, «состав Начального свода был сложнее состава Несторова сказания, и это отражалось на необходимости согласовывать источники, комбинировать их и давать таким образом иной раз придуманные известия, искусственно составленные сообщения». Хотя вопрос об источниках «Чтения» и его месте среди памятников цикла остается дискуссионным, в настоящее время утвердилось мнение, что при его составлении Нестор мог опираться на повесть «Об убиении Борисове», Вышегородские церковные записки, «Анонимное сказание», а возможно, и свод Никона, над продолжением которого, согласно гипотезе В. К. Зиборова, он работал в 1075–1078 гг. Эта гипотеза предусматривает, что Нестор обращался к летописной работе дважды: во второй половине 70-х гг. XI столетия (в качестве сотрудника Никона) и в начале XII в. (как составитель первой редакции ПВЛ) {208} 208 Зиборов 1995. С. 128–156.
.
Как бы то ни было, Нестор в значительной степени модифицировал сведения своих источников в соответствии с целями и задачами агиографического сюжета: так, борьбу за наследство Владимира он раскрыл, с одной стороны, в универсальном для средневековой историографии контексте противостояния Бога и дьявола, а с другой — во всемирно-историческом аспекте становления христианства, что выделяет его произведение среди других произведений Борисоглебского цикла. Для создания этого монументального введения агиограф использовал «Речь философа» к Владимиру Святославичу, сочинения «отцов церкви», памятники агиографии и апокрифы. И фактографически и концептуально труд Нестора настолько отличается от других памятников, что некоторые исследователи (например, А. Л. Никитин), склонны возводить к нему генезис всего Борисоглебского цикла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу