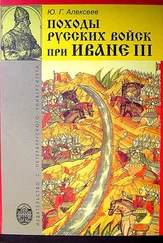Новгородцы подошли к беззащитному городу... И тут храбрый воевода .Прокоф и его «молодцы» показали себя с другой, значительно менее геройской стороны. Целую неделю шел беспощадный грабеж русского города. Кострома была обчищена дотла. «Вся сокровенная» и «всяк товар» были разделены на две части — «лучшее и легчайшие» ушкуйники взяли с собой, а все прочее — «в Волгу вметаша, а иное пожгоша». Но этого мало. Новгородские «молодцы» «множество народа христианского полониша». «Мужей и жен, и детей, отрок и девиц» повели они с собой, в дальнюю сторону...
Под Нижним Новгородом ушкуйники громили торговые караваны, секли «бесермен... а християн тако же», захватывали полон с женами и детьми, грабили товары... Вошли в Каму, грабили и там... Вернулись на Волгу, и тут, в царстве булгар, «полон христьянский весь попродаша». Освободившись от живого товара, ушкуи быстро бежали вниз по Волге, грабя, убивая и захватывая в плен всех по дороге. Так они весело домчались до самого устья, «до града Хазиторокана» (теперешней Астрахани). И тут подвигам бесшабашной вольницы пришел конец — «изби их лестью князь Хазитороканский, именем Салчей». По словам летописца, коварный князь обманом истребил ушкуйников всех до единого и захватил все их «именья».
В русской летописи трудно найти другую картину такого беспощадного разбоя, такого безбрежного, откровенного насилия и грабежа, не сдерживаемого никакими препонами — ни национальными, ни конфессиональными, ни моральными, ни политическими... На широкой Волге стоял стон от «подвигов» новгородской вольницы, шли ко дну и пылали суда с товарами и без товаров, разрушалась тонкая, хрупкая нить торговых связей, столь важная и для Русской земли, и для ее соседей, ручьями лилась кровь — и русская, и «бесерменская», и «бесерменские», и русские люди превращались в живой товар. Налет Прокофия и его дружины смело можно сравнить с ордынским нашествием среднего масштаба. А ведь от экспедиции Есифа Варфоломеевича этот налет отличался только в деталях — главным образом, своим финалом. Опьяненный кровью и победами, Прокоф вовремя не повернул обратно, в отличие от своего более предусмотрительного предшественника...
Мало было новгородским боярам и их «людям молодым» печорской пушнины, европейских сукон и вина. Хотелось еще большего богатства, еще большей силы, власти, славы. Походы по Волге и Каме интересовали их куда больше, чем стояние под Тверью под знаменами великого князя...
Едва ли можно удивляться, что Дмитрий Иванович, призывая своих новгородских вассалов в походы, видел и другую сторону политического лица Господина Великого Новгорода. Еще после набега Есифа Варфоломеевича на Нижний Новгород великий князь «розгневася и разверже мир с новгородци, а ркя тако: „за что есте ходиле на Волгу и гости моего пограбисте много"». Тогда новгородским послам удалось возобновить мир (очевидно, ценой извинений и уступок).
Но поход Прокофия был еще более разбойным. Это был удар по жизненно важным интересам Русской земли. И наступила расплата.
Под 6894 годом новгородский летописец отметил: «...тое же зимы приходи князь великий Дмитрий ратью к Новугораду... держа гнев про волжан на Новъгород». Московский летописец поясняет, «что взяли розбоем Кострому и Новъгород Нижний». 6 января 1387 года Дмитрий Донской во главе ополчения почти всей Русской земли встал в пятнадцати верстах от города. Начались переговоры. Туда и обратно ездили новгородские послы, архиепископ Алексий, архимандрит Юрьева монастыря с семью священниками и по житью человеку с каждого из пяти концов. Тем временем шла феодальная .война великого князя-сюзерена с его новгородским вассалом. Горели деревни, уводились в плен люди...
Наконец удалось заключить мир. Пришлось господе раскошелиться. Три тысячи рублей «вземше... новогородци с полатей у святые Софии» и послали великому князю, а еще 5 тысяч обязались собрать с Заволочской земли, «понеже бо и заволочане были на Волзе». Кроме того, Господин Великий Новгород вынужден был дать Дмитрию Ивановичу «черный бор» — согласиться на одноразовое обложение налогом в пользу великого князя. Так закончилось первое крупное «розмирье» новгородского боярства с его московским сюзереном.
Не только «лихость» и элементарная жадность гнали ушкуйников в их разбойные походы по русским рекам. В набегах на Волгу и Каму, в грабежах русских и «бесерменских» торговых караванов, в дерзких нападениях на русские города проявлялась одна из наиболее характерных, специфических черт феодального развития Новгородской земли — его экстенсивный характер. Огромная феодальная республика базировалась на сравнительно слабо развитом сельском хозяйстве. Бояре всегда имели возможность купить хлеб в соседних землях или собрать его в виде «издолья» со своих необъятных вотчин. Не хлебные оброки и зарождающееся барщинное хозяйство интересовали новгородских бояр, а в первую очередь — сокровища и импортные товары. Вот и не сиделось их «молодцам» в огромных, но малоплодородных вотчинах по Луге, Мете и Шело-ни, где среди дремучих лесов и болот шаг за шагом культивировали скудную пашню трудолюбивые, бесправные смерды, кормильцы Новгородской земли. «Кто смерд, а тот потянет в свой погост»,— гласила новгородская пошлина. Смердьи погосты несли все повинности в пользу Великого Новгорода, обеспечивая «молодцам» возможность ходить в дальние экспедиции за данью и грабить приречные русские города.
Читать дальше




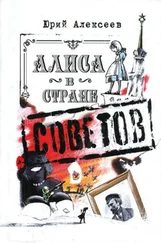

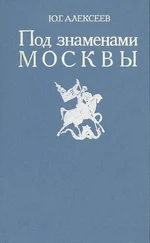



![Оксана Алексеева - Закат [СИ]](/books/416873/oksana-alekseeva-zakat-si-thumb.webp)