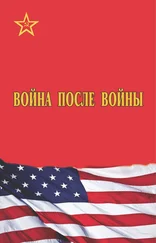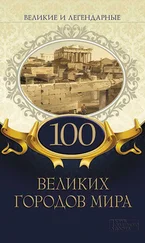Возможно, более убедительное объяснение неравномерного распределения военизированного насилия в Европе скрывается в мобилизационном потенциале поражения. Последнее следует рассматривать не только в терминах баланса сил, но и в смысле состояния сознания (включая отказ смириться с превратностями судьбы), которое Вольфганг Шифельбуш назвал «культурой поражения» {9} 9 Schivelbusch W. The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning, and Recovery. New York, 2003; Horne J . Defeat and Memory since the French Revolution: Some Reflections // Macleod J. (Ed.). Defeat and Memory. Cultural Histories of Military Defeat since 1815. London, 2008. P. 11–29.
. Нация во время Первой мировой войны сыграла ключевую роль в организации и одобрении массовых проявлений насилия со стороны миллионов мужчин-европейцев. И та же нация являлась мощным средством легитимизации, поглощения и нейтрализации этого насилия после завершения конфликта. Однако в тех случаях, когда нация потерпела поражение — либо в реальности, либо только в собственных глазах (что можно сказать, например, об итальянских националистических кругах), — ей было гораздо труднее сыграть эту роль; собственно, она могла делать ровно противоположное, усугубляя насилие и дозволяя его всевозможным группам и индивидуумам, готовым к насилию в качестве расплаты за поражение и национальное унижение {10} 10 Общую аргументацию по этому вопросу см.: Sanborn J . Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb (111.), 2003. P. 165–200.
. Таким образом, характер «возвращения домой» в контексте победы или поражения был важной переменной, которая, однако, требует эмпирического изучения на региональном, а не только на национальном уровне. Поражение было бесконечно более реально для тех, кто жил в этнически пестрых приграничных регионах Центральных держав, чем для жителей Берлина, Будапешта или Вены, — не случайно молодые люди из этих спорных приграничных регионов были в послевоенные годы в намного большей степени представлены в военизированных организациях {11} 11 Сложный случай Германии разбирается в: Bessel R. Germany after the First World War. Oxford, 1993; Ziemann B. War Experiences in Rural Germany, 1914–1923. Oxford, 2007.
. Из недавнего исследования географического происхождения нацистских преступников также следует, что они тоже в непропорционально большом количестве происходили с утраченных территорий или из спорных приграничных регионов — таких как Австрия, Эльзас, Балтийские страны, оккупированный Рейнланд или Силезия {12} 12 Mann M. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge, 2005. P. 239.
.
Другая концепция, занимающая видное место в историографических дискуссиях, связанных с нашей темой, состоит в том, что демобилизация рассматривается как политический и культурный, а не только как чисто военный и экономический процесс {13} 13 О концепции культурной демобилизации см.: Horne J . (Ed.). Démobilisations culturelles après la Grande Guerre // 14–18: Aujourd’hui-Heute-Today. 5 Mai.
. «Культурная демобилизация», разумеется, подразумевает возможность отказа или неспособности демобилизоваться. Случаи военизированного насилия и те условия, в которых оно было особенно кровавым, дают хорошую возможность выявить государства, регионы, движения и индивидуумов, для которых — особенно в случае поражения в конфликте — было труднее всего оставить насилие войны в прошлом, вне зависимости от того, участвовали ли они в нем непосредственно в ходе военных действий или, будучи подростками, лишь «на внутреннем фронте» {14} 14 О Германии в частности см.: Ziemann В. War Experiences; Schumann D. Europa, der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Eine Kontinuität der Gewalt? // Journal of Modern European History. 2003. S. 24–43.
. [1] Также важен в этом отношении недавно завершенный проект Марка Корнуэлла, получавший финансирование от AHRC, Победители и жертвы: мужчины военного поколения на востоке Центральной Европы , 1918–1930 (Victors and Victims: the Male Wartime Generation in East-Central Europe, 1918–1930). Корнуэлл изучает, каким образом мужчины — представители того поколения Габсбургской империи, которое прошло через Первую мировую войну, справлялись с военными жертвами и с переходом к мирной жизни, и в этом отношении дополняет недавние работы историко-культурного направления об увековечении войны и демобилизации в отдельных государствах Западной Европы в 1920-х годах.
Спокойствие середины и конца 1920-х годов было лишь относительным и очень недолгим. Наследие послевоенного военизированного насилия, в свою очередь, задает одну из связей между двумя циклами европейского и глобального насилия — приходящимся на 1912–1923 годы и последующим, начавшимся на политическом и культурном уровне спустя десятилетие.
Читать дальше
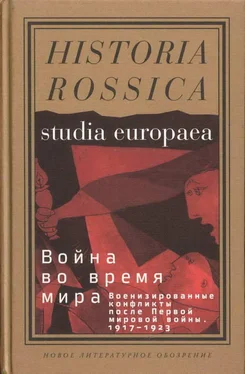

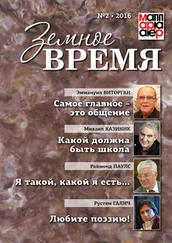
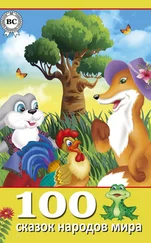




![Коллектив авторов - Закат империи США - Кризисы и конфликты [Сборник]](/books/405725/kollektiv-avtorov-zakat-imperii-ssha-krizisy-i-kon-thumb.webp)