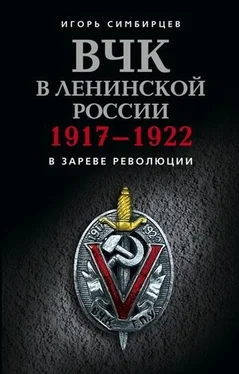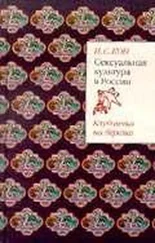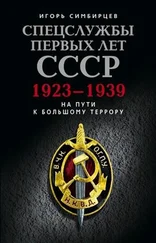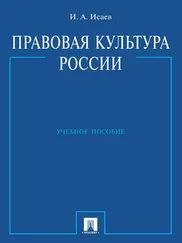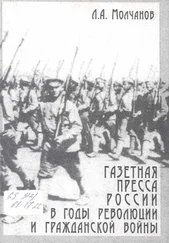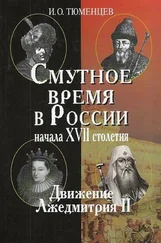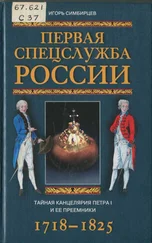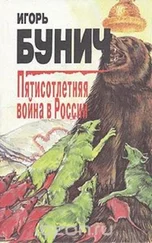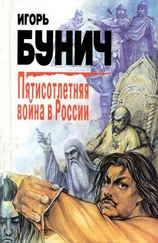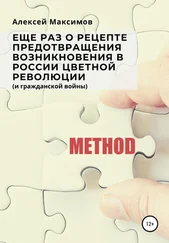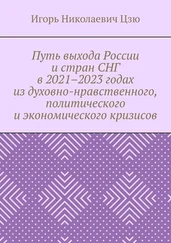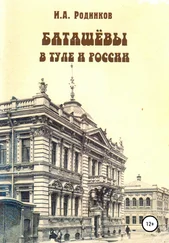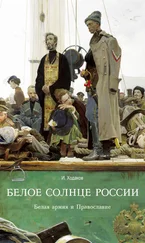Ставить знак равенства, как это и сейчас пытаются, между приказом генерала Корнилова по обескровленной и вымотанной Ледяным походом его маленькой армии: «Пленных не брать» перед конкретным боем и тысячами жертв чекистских расстрелов по спискам заложников из «неблагонадежных» в глубоком красном тылу – вряд ли с любой точки зрения такие сопоставления когда-то утвердят принцип равной ответственности здесь. Давно уже отмечено существенное различие: Корнилов даже в этом своем жестоком приказе по армии оговорился специально: «Мы не можем сейчас себе позволить брать пленных». Именно не можем, потому и не будем, к тому же Корнилов, к его чести, еще и оговорился, что все это тяжкий грех, но он в такую минуту этим приказом берет его лично на себя.
После гибели Корнилова этот приказ по Добровольческой армии отменил ее новый главком Деникин, запретив вообще расстреливать пленных, хотя в условиях общего ожесточения белые не везде подчинялись этой деникинской директиве. Деникин и сам это признавал позднее, посвятив в своих эмигрантских мемуарах «Очерки русской смуты» много страниц своим попыткам добиться рыцарских методов ведения войны со стороны своей армии, разбивавшихся на месте о скалу общего и тотального озверения, но неизменно подчеркивая разницу между «эксцессами» своих воинов и террором ЧК:
«Помню свою поездку на Таганрогский фронт в середине января. На одной из станций возле Матвеева кургана на платформе лежало тело, прикрытое рогожей. Это был труп начальника станции, убитого большевиками, узнавшими, что его сыновья служат в Добровольческой армии. Отцу порубили руки и ноги, вскрыли брюшную полость и закопали еще живым в землю… Здесь же были два его сына – офицеры, приехавшие из резерва, чтобы взять тело отца и отвезти его в Ростов. Вагон с покойником прицепили к поезду, в котором я ехал. На какой-то попутной станции один из сыновей, увидев вагон с захваченными в плен большевиками, пришел в исступление, ворвался в вагон и, пока караул опомнился, застрелил несколько человек…
Большевики с самого начала определили характер Гражданской войны: истребление. Советская опричнина убивала и мучила всех не столько в силу звериного ожесточения, непосредственно появлявшегося во время боя, сколько под влиянием направляющей сверху руки, возводившей террор в систему и видевшей в нем единственное средство сохранить свое существование и власть над страной. Террор у них не прятался стыдливо за «стихию», «народный гнев» и прочие безответственные элементы психологии масс – он шествовал нагло и беззастенчиво». [9]
Здесь с Деникиным очень трудно спорить, как тем, кто считает «белый террор» страшнее красного, так и сторонникам принципа «равной вины». У оппонентов корниловцев и деникинцев в кожаных куртках и речи не было о вынужденной необходимости или о взятии такого греха на свою совесть, расстреливать «контру» они друг друга обязывали из своего понимания защиты революции и это свое право ничуть, в отличие от Корнилова, не пытались оправдывать сложной фронтовой обстановкой.
За белый лагерь в этом смысле прекрасно высказался один из самых талантливых среди белых литераторов – Борис Савинков, в своей автобиографической повести «Конь вороной» размышляя об этих вспышках жестокости белых как раз наблюдаемых им в рейде 1920 года Булак-Балаховича по советской части Белоруссии: «Сроков знать не дано, но Россия встанет нашей кровью. Пусть мы пух, пусть нас возносит ненастье, пусть мы слепые и ненавидящие друг друга. Не мы измерим наш грех, но и не мы измерим нашу жертву». Это объяснение от лица большинства идейных людей белого лагеря многое объясняет даже через кружева красивых образов писателя Савинкова: они понимали, как Корнилов, этот грех и брали его на себя. А не кричали, как чекист Лацис: «Мы первые, нам все дозволено!» Разница здесь, по-моему, абсолютно ясна.
Многие высказывавшие со стороны белого лагеря такую точку зрения специально подчеркивали: необходимо было придерживаться определенных принципов, даже если это привело бы к поражению всей их борьбы в итоге. Заведомая слабость и безнадежность белого дела со временем даже стала поводом для особого вида городости, особенно уже в эмиграции после отступления из России. Врангелевский офицер Владимир Даватц, написавший в эмиграции воспоминания «Русская армия на чужбине», настаивал, что именно заведомая безнадежность этого белого дела и чистота при этом его знамен и есть главная доблесть всего их лагеря: «Было безумием надеяться одолеть несколькими полками красноармейские массы, безумием было начинать Кубанский поход, безумием было идти на Москву, безумием было защищать Крым, безумием было упрямо сохранять армию в лагерях Галлиполи и Лемноса – но только благодаря этому безумию мы можем не краснеть за то, что мы русские». Сам Даватц этой позиции остался верен и в эмиграции, он так и не сложил оружие в своей борьбе с коммунизмом, вступил во Вторую мировую войну в эмигрантский «Русский корпус» в Югославии и в 1944 году убит в бою с титовскими красными партизанами в местечке Сиеница.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу