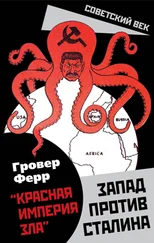Естественно возникает вопрос: какие люди занимаются сбором информации и для чего они это делают?
Форейн Офис укомплектовал «Секретариат по русским делам» людьми, чьи взгляды, конечно, ни в какой мере не отражали послевоенного настроения английского народа, который горячо стремился к сотрудничеству и доброжелательным отношениям с Советским Союзом и странами Восточной Европы. Уже через несколько месяцев после заключения мира стало очевидным, что лейбористскому правительству нужно, чтобы эта новая разведка поставляла сведения, которые можно было бы использовать во вред Советскому Союзу, всем прогрессивным силам Европы, а также для борьбы против рабочего класса Британии. В Варшаву, например, был послан Майкл Уинч, задушевный друг немощных польских аристократов, томный сибарит, типичный образец английской дилетантствующей интеллигенции. Будапештский представитель, некий Редуорд, еще до войны славился в журналистских кругах как приверженец самых реакционных политических группировок Венгрии. Всем известно, что он служил на канонерской лодке под командованием адмирала Трубриджа, который оказал активную поддержку контрреволюционным силам Хорти в 1919 году.
В Москве дела «Русского секретариата» находились в руках Джорджа Болсовера, который почти всю войну провел в качестве сотрудника английского посольства. Болсовер приехал в Советский Союз, имея репутацию историка. Представляясь, он всегда подчеркивал, что он «не дипломат, а историк, временно находящийся на дипломатической службе». Однако он сам рассказывал мне, как манчестерские студенты, которым он читал лекции по истории Англии, однажды подвергли сомнению его авторитет, когда он критиковал Советскую Россию. И я что-то не замечал, чтобы Болсовер стремился внести коррективы в то ложное представление о Советской России, которое так долго навязывалось английским студентам.
В качестве примера сошлюсь на обстоятельный доклад о просвещении в СССР, над которым он «трудился» несколько месяцев.
В этом докладе были специально подобранные примеры с целью дискредитировать советскую систему народного образования и замалчивались достижения и преимущества этой системы, которые признаются даже самыми суровыми критиками советского строя за границей. Эта работа, как и все другие работы, проводимые «Секретариатом по русским делам», преследовала одну основную цель: скрупулезное выискивание «уязвимых мест». В ней виден не объективный исследовательский интерес, а выполнение задания Форейн Офис по контрпропаганде.
Из числа других дипломатов, работающих на «Секретариат по русским делам», одни входили непосредственно в аппарат секретариата, а другие были лишь информаторами. Дэвид Флойд, кооптированный в состав секретариата уже после войны, работал раньше в Москве в качестве члена британской военной миссии; Джордж Грэхэм, на обязанности которого в отделе печати лежало учитывать, как советские граждане относятся к русским передачам Би-би-си, во время войны был офицером при миссии разведчика Джорджа Хилла. Флойд с подозрительной настойчивостью внушал всем, что он — человек левых политических взглядов. Из Москвы Флойд в 1947 году был переведен в Прагу, а позднее — в Белград. Насколько мне известно, у чехословацкого правительства не было никаких оснований считать его человеком просоветски настроенным.
Из других сотрудников британского посольства стоит упомянуть еще мисс Бренду Трипп. Она сама именовала себя «наполовину человеком науки»; неясным оставалось только, что же представляет собой другая половина. Говорили, что ее направил в СССР Британский совет (организация по культурно-просветительной связи с заграницей, официально считающаяся независимой от Форейн Офис). Советские власти, впрочем, отказались принять мисс Трипп как представительницу этой организации, и она нашла себе прибежище в отделе печати посольства. У этой мисс были изысканные манеры и своеобразная кошачья грация. Ее обязанности состояли, очевидно, в установлении как можно более многочисленных связей с советскими учеными и в организации прямого обмена научными трудами между английскими и советскими учеными кругами.
Но ее расспросы о личной жизни и политических взглядах советских граждан, с которыми она знакомилась, и повышенный интерес к тем, кто когда-либо побывал или собирался побывать в Англии, выходили за рамки любезности, положенной дипломату или даже «наполовину дипломату». Когда в 1945 году группа английских ученых приехала в Советский Союз на юбилейную сессию Академии наук, члены этой группы вполне резонно решили отклонить ее настойчивые предложения оказать им услуги в качестве секретаря-переводчика.
Читать дальше
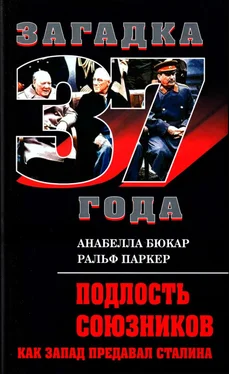
![Мартин МакДонах - Тоскливый Запад [=Сиротливый Запад]](/books/92360/martin-makdonah-tosklivyj-zapad-sirotlivyj-zapad-thumb.webp)
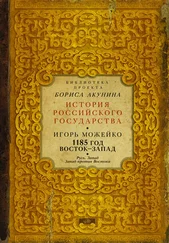
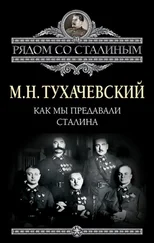
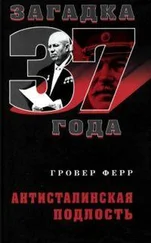

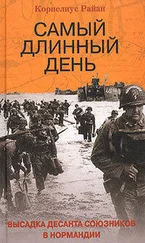
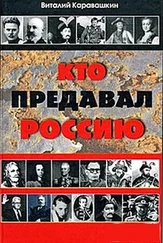
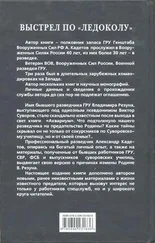
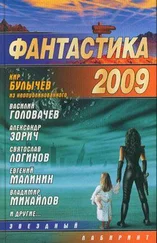
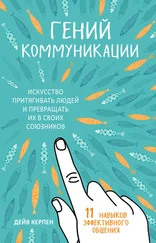
![Андрей Земляной - Сын Сталина - Рокировка. Сын Сталина. Джокер Сталина [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414508/andrej-zemlyanoj-syn-stalina-rokirovka-syn-stalin-thumb.webp)