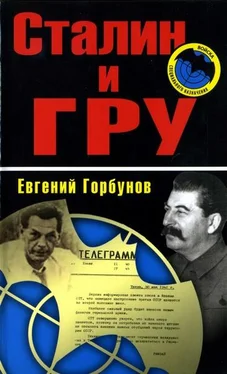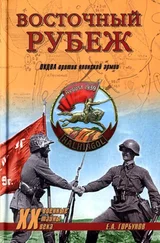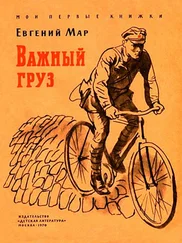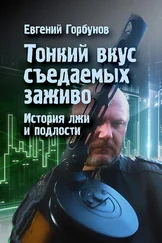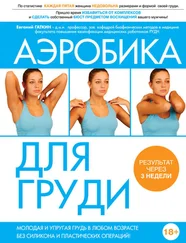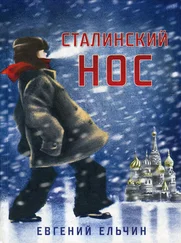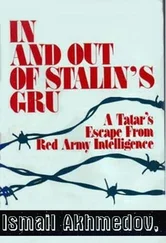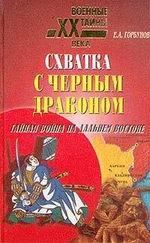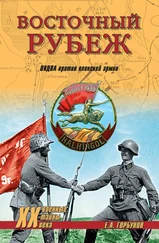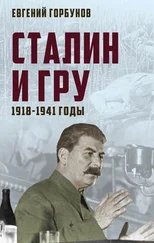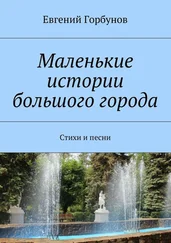Но в 1930-м Уншлихта «ушли» из военного ведомства и переместили на второстепенную гражданскую работу. Место опытного профессионала, курировавшего повседневную деятельность Управления, занял партиец Ян Гамарник, который был дилетантом в вопросах разведывательной службы. Рассчитывать на его квалифицированное руководство и поддержку, так же как и на свободу действий, Берзин уже не мог. Он уже не имел помощи и поддержки «сверху», не имел, выражаясь современным языком, «крыши» и по всем вопросам разведки оставался один на один с Ворошиловым, который был тогда и остался потом некомпетентным в разведке, которому трудно было что-либо доказать. Это положение усугубилось в 1930 г. и тем, что по новому распределению обязанностей Управление стало подчиняться непосредственно наркому.
Поэтому Берзин в 1930 г. после ухода Уншлихта и Бортновского лишился поддержки и «сверху», и «снизу» и остался один. Следует отметить, что в начале 30-х помимо 120 человек штатного состава в Управлении имелось и около 350 секретных сотрудников, или «прикомандированных», как они числились в документах. Держать в своих руках деятельность около 500 человек не под силу ни одному руководителю. А полноценного, квалифицированного и авторитетного первого зама не было. Попытка советской литературы 60–70-х годов, заданная руководством ГРУ, показать Василия Давыдова и Оскара Стиггу как ближайших соратников Берзина при знакомстве с архивными документами не выдерживает критики. Эти двое, и особенно Давыдов, были мелковаты для того, чтобы быть ближайшими соратниками такой крупной личности и такого политического деятеля как Берзин. Ближайший соратник может и должен заменить руководителя в случае необходимости и в разведке, и во взаимоотношениях с рейхсвером, и в высоких кабинетах, где надо иметь вес и влияние. Но очень трудно представить в этой роли Стиггу, а тем более Давыдова, который был в это время только сотрудником для особых поручений при главе Управления.
И, как следствие событий 30-го, 1931 год стал годом серьезнейших неприятностей для руководителя военной разведки. Результаты кадровых перестановок внутри Управления, связанные с приходом нового неопытного и неквалифицированного начальника агентурного отдела, начали сказываться в полной мере. Берзин, будучи один и не имея поддержки ни «снизу», ни «сверху», начал, очевидно, терять бразды правления, пытаясь в одиночку осуществлять управление разросшимся разведывательным аппаратом. Как опытнейший руководитель разведки, он хорошо понимал, что одному не справиться, что рано или поздно наступит сбой в дирижировании таким сложным оркестром, как агентурная разведка. Нужен был надежный и квалифицированный заместитель, но его не было. Нужен был опытный руководитель, прекрасно ориентирующийся во всех тонкостях и нюансах «разведывательной кухни», способный поправить, подсказать, дать дельный совет, но такого человека рядом тоже не было. С уходом из военного ведомства Уншлихта, который имел вес и влияние в отделах ЦК и к мнению которого прислушивались в Политбюро, Берзин потерял возможность влиять на перестановки в руководящих разведывательных кадрах. Да и обстановка в стране менялась на глазах. Наступали зловещие тридцатые годы с фальсифицированными политическими процессами, культом личности Сталина и Ворошилова, с той гнетущей тяжелой атмосферой, которая накапливалась в обществе. И Берзин, прекрасно знавший обстановку и за рубежом, и внутри страны, чувствовал, быть может, лучше других военачальников, наступление этих перемен и в работе военной разведки, но был уже бессилен что-либо изменить.
Обстановка в стране в конце 1930-го и особенно в 1931-м определялась процессом «Промпартии». Дутый фальсифицированный процесс с надуманными обвинениями, в том числе и о «подготовке» Францией в союзе с Польшей войны против СССР, всколыхнул всю страну. Процесс был открытым, его стенограмма публиковалась в печати, и по страницам газет и журналов начало гулять слово «интервенция». Францию и Польшу обвиняли во всех смертных грехах, приписывая им то, чего никогда не было. Руководство наркомата и ОГПУ потребовало от военной и политической разведок представить доказательства того, чего не было, — подготовки Францией и Польшей при поддержке Англии и США войны против Советского Союза. И обе разведки, военная и политическая, были подняты по боевой тревоге. Резидентуры Управления в этих странах начали активно работать с агентурой. Привлекались для такой работы и сотрудники военного атташата СССР в этих странах, которые традиционно находились под «колпаком» местных контрразведок. К сожалению, подбор военных атташе и их помощников не всегда зависел от начальника Управления. Иногда на эти должности назначали строевых командиров, не имевших специальной разведывательной подготовки. И, как следствие, неумение работать с местной агентурой, уходить от наружного наблюдения, слабое знание языка и страны пребывания. Результат всего этого — элементарные провалы, которых можно было бы избежать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу