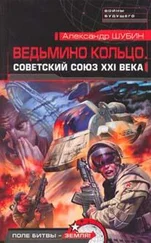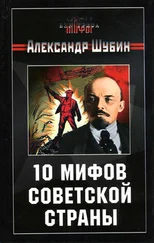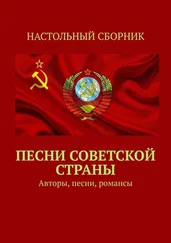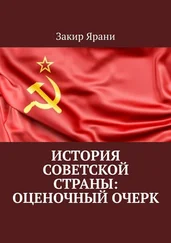Но все интриги и элитарное возмущение не могут привести к гибели системы, если широкие слои населения довольны жизнью. Охранное отделение сообщало в канун Февральской революции: «Если население еще не устраивает голодные бунты, то это еще не означает, что оно их не устроит в самое ближайшем будущем. Озлобление растет, и конца его росту не видать» [2] Блок А.А. Последние дни старого режима. Архив русской революции. М., 1991. Т.4. С.16.
.
* * *
Казалось бы, картина событий понятна. Самодержавие своей неэффективностью и неуступчивостью довело страну в условиях войны до глубокого кризиса. Население и не выдержало. В феврале 1917 г. хватило призыва небольших революционных групп, чтобы население Петрограда вышло на улицы. Но мифотворцам такая картина не нравится. Нужна интрига, детектив, заговор тайных сил.
При этом в качестве главных заговорщиков называют людей вполне известных, никак не тайных – Гучкова, Родзянко, Милюкова. Может быть, они жили двойной жизнью. Утром выступали с высоких трибун, а ночью писали закодированные письма?
Каково было соотношение легальных и нелегальных действий либеральной оппозиции? В 1915 г. «общественность» имела вполне легальные структуры, которые занимались поддержкой тыла с одной стороны, и критикой правительства с другой – думский Прогрессивный блок, лидерами которого были спикер думы, октябрист Родзянко и кадет П. Милюков, Центральный военно-промышленный комитет во главе с октябристом А. Гучковым, и земско-городской союз (Земгор), лидерами которого был князь Г. Львов и московский городской голова М. Челноков.
Очевидная неэффективность бюрократического аппарата, особенно проявившаяся в 1915 г., позволила «общественности» активно включиться в дело снабжения армии через «Красный крест», земские организации и военно-промышленные комитеты. Насколько эффективна была эта работа – можно судить по-разному, но интеллигенция и буржуазия отдавала предпочтение своим организациям. Туда привлекались финансовые и интеллектуальные ресурсы. Чиновничество в большинстве своем относилось к сети общественных организаций с недоверием. Это привело к соперничеству, «перетягиванию каната» между чиновничеством и «общественностью» в деле «организации тыла».
Поскольку депутаты были людьми известными, на них выходили все новые недовольные. В условиях военных поражений – и военные, готовые поиграть в «декабристов» ради того, чтобы сделать войну более «толковой» и победоносной. Не удивительно, что потенциальные военные заговорщики обращались к Александру Гучкову, который одно время возглавлял комиссию Думы по вопросам обороны и вообще слыл ведущим военным специалистом в депутатском корпусе. Во время войны он возглавлял Центральный военно-промышленный комитет. По признанию самого Гучкова, он вел секретные беседы о возможности дворцового переворота. Вот, наконец, и заговор. Что и требовалось доказать? Нет, доказать требовалось не это. Привел ли заговор Гучкова к свержению самодержавия, или речь идет о салонных конспирациях, которые так и остались разговорами, а самодержавие рухнуло в результате народных выступлений, с Гучковым никак не связанных?
* * *
Собирать кадры либерально настроенных военных, как их называли после турецкого переворота 1908 г. – «младотурков», Гучков начал практически сразу после первой революции. Сочувствие военных либеральным западническим идеям росло по мере дискредитации самодержавия.
Сам Гучков не относился к своим контактам с военными как к заговору, не скрывал их и даже любил бахвалиться ими [3] Кобылин В. Анатомия измены. Император Николай II и Генерал-адъютант М.В. Алексеев. Истоки антимонархического заговора. СПб., 1998. С.172.
. Так что об этих встречах, имевших легальное обоснование по части Военно-промышленного комитета, знала половина Петербургского света. В узком кругу с Некрасовым и Терещенко обсуждали более решительные действия, но практических приготовлений сделано не было. Высокопоставленный чиновник-путеец Ю. Ломоносов вспоминал о разговорах подобного рода, которые велись «даже за генеральскими столами. Но всегда, при всех разговорах этого рода наиболее вероятным исходом казалась революция чисто дворцовая, вроде убийства Павла» [4] Станкевич В.Б. Воспоминания. 1914-1919; Ломоносов Ю.В. Воспоминания о мартовской революции 1917 года. М., 1994. С.219.
.
Когда после провала снабжения армии 1915 г. предприниматели создали военно-промышленные комитеты, снабжавшие армию, генералы сотрудничали с их организаторами и продолжали проникаться либеральными идеями. В этом нет ничего сверхъестественного и требующего разыскания заговора.
Читать дальше