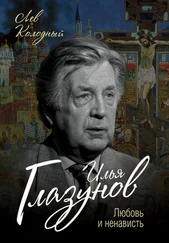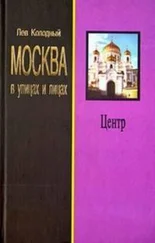На Софийской набережной Василий Баженов построил собственный дом. Групповой портрет семьи знаменитого архитектора сохранился. Где стоял особняк - неизвестно. Его со всем имуществом, как нам известно, пришлось отдать за долги по прихоти заимодавца Демидова. Этот Крез пожертвовал колоссальную сумму Московскому университету с непременным условием, что новое здание на Моховой построят не по проекту Баженова. Демидов сживал со свету гордого мастера. Судьба Баженова мне напоминает судьбу Иофана. Оба всю жизнь работали над колоссальными прожектами. Один по заказу императрицы занимался Большим Дворцом для Кремля. Другой по заказу вождя проектировал Дворец Советов. И оба по независящим от них причинам потерпели крах.
После пожара 1812 года набережные застраивались невысокими каменными домами. В рост они пошли после "великих реформ", когда на авансцену вышли такие фигуры, как Василий Кокорев. Энциклопедический биографический словарь Брокгазуза и Ефрона писал о нем так: "...выучившись кое-как читать и считать и помогая отцу своему, бывшему сидельцем питейных домов, К. приобрел опыт по винному делу". Где приобрел указанный "К" дар публициста, размах, способность учреждать крупнейшие предприятия - либеральные энциклопедисты не указывают, не жалуя дельца из народа. На винные деньги Кокорев основал Северное страховое общество, Волжско-Камский банк, построил с Петром Губониным Уральскую железную дорогу. В Москве соорудил на Софийской набережной, 34, "Кокоревское подворье". Путеводитель 1896 года описывал его такими словами: "Громадное сооружение капитальной постройки по плану инженера Козачка содержит в себе около 300 номеров для приезжающих, склады товаров и амбары для хранения имущества. Отсюда прекрасный вид на Кремль".
Что верно, то верно. Лучшего вида на Кремль нет. В "Кокоревке" любили поэтому останавливаться художники, особенно часто - Репин. Впервые приехав в Москву, в подворье снял номер Чайковский, в нем не раз живал позднее, став известным композитором. "Как у меня хорошо, - писал он в 1880 году. Я отворяю балкон и беспрестанно выхожу любоваться видом на Кремль".
Трехэтажный комплекс проектировал не "инженер Козачок", а архитектор Иван Черник, академик и профессор Императорской академии художеств в Петербурге. Он же проектировал на Раушской набережной, 4, Мамонтовское подворье. А по его проектам строил московский архитектор Антон Булгарин, "свободный художник", проживший, как Пушкин, 37 лет. Чернику и ему Кокорев доверил собственный особняк в Большом Трехсвятительском переулке, 1. Оттуда в июле 1918 большевики пушками вышибали левых эсеров, недавних союзников, попытавшихся взять власть.
Другое не менее известное "громадное здание" протянулось по Софийской набережной, 26, стараниями братьев Бахрушиных, о которых речь шла выше. Четырехэтажный дом бесплатных квартир предназначался одиноким вдовам с детьми и курсисткам. Фасад здания выглядит как дворец, где традиция классицизма переплелась с новациями модерна. Все квартиры, принадлежавшие Московской городской управе, были однокомнатные, но разной площади - от 13,2 до 30, 4 квадратных метров. Большой купол домовой церкви Николы Чудотворца и башня над крышей, как колокольня Софии, перекликались с куполами и колокольнями Кремля.
На Софийской набережной, 14 и 16, соседствовали Павел Харитоненко и Михаил Терещенко. Их объединяло не одно украинское происхождение. Оба слыли крупнейшими сахарозаводчиками. Терещенко умер спустя сорок лет после революции далеко от московского дома - в княжестве Монако, в статусе крупного финансиста. В 30 лет он участвовал в заговоре против Николая II и после отречения царя вошел во Временное правительство министром финансов. Из Зимнего дворца его препроводили под конвоем в Петропавловскую крепость, а когда освободили, экс-министр сбежал из России за границу, где безуспешно пытался свергнуть власть Ленина. Потерпев крах в политике, преуспел в деле, ворочая миллионами во Франции и на Мадагаскаре.
Иная судьба Харитоненко, умершего в собственном имении в 1914 году. Современники считали его одним из самых богатых людей России, его капиталы оценивались в 60 миллионов рублей. (Василий Кокорев, к примеру, в лучшие годы располагал 7 миллионами.) Деньги позволяли покупать дорогие картины, старинные иконы, заказывать портреты, устраивать приемы на 300 персон, где играл Скрябин, пел Шаляпин. Побывавший на таком званом ужине английский консул Роберт Брюс Локкарт, позднее чуть было не расстрелянный чекистами за "заговор Локкарта", описывал прием такими словами:
Читать дальше