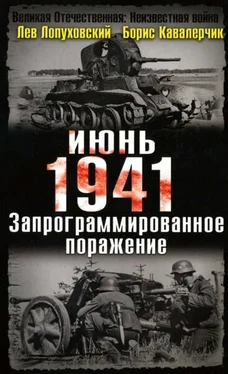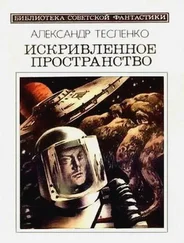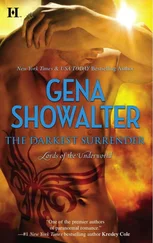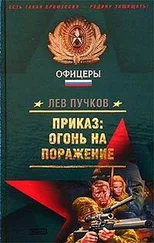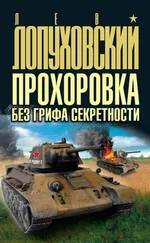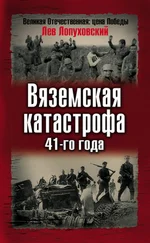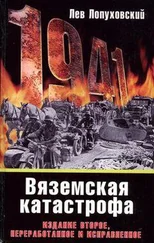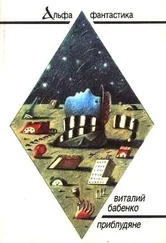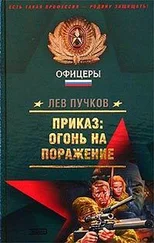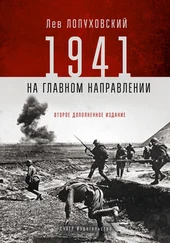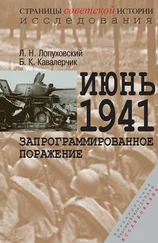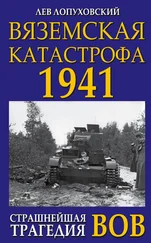Во время многомесячного противостояния вермахта и французской армии, усиленной английским экспедиционным корпусом, СССР оставался вне главного конфликта и накапливал силы, готовясь в удобный момент выступить на арену в качестве главного игрока. В такой ситуации Сталин рассчитывал бросить на чашу весов ту самую решающую гирю, которая должна была решить исход войны. При подобном сценарии огромная, хорошо вооруженная и свежая Красная Армия имела бы реальные шансы на успех. Особенно учитывая, что ее противники должны были ко времени ее вмешательства существенно ослабить друг друга в результате продолжительной смертельной борьбы. А дальше оставалось продиктовать условия мира и пожать сладкие плоды победы.
Между тем, «странная война» на Западном фронте после 8-месячной паузы неожиданно завершилась ошеломительной победой немцев всего за каких-то шесть недель активных боевых действий. Вот тут-то и выяснилось, что Сталин жестоко просчитался, когда надеялся заманить Гитлера в ловушку длительной войны на истощение. Ситуация в Европе в корне изменилась. СССР внезапно оказался один на один с победоносной Германией, у которой уже не маячила за спиной, как это было прежде, французская армия. Наоборот, немалые ресурсы Франции и других оккупированных вермахтом европейских стран, работавшие ранее против немцев, оказались теперь в руках немцев. Оказалось, что в новых условиях думать надо было совсем не о вступлении в войну в удобное время и на выгодных условиях, чтобы решить ее исход в свою пользу. Речь шла уже о спасении своей страны от смертельной опасности, которая исходила от грозного вермахта, увенчанного ореолом непобедимости.
Любопытно, как сам Сталин в то время объяснял одну из основных причин впечатляющих успехов немцев. В своей известной речи на выпуске слушателей академий Красной Армии в Кремле 5 мая 1941 г. он заявил:
«Чтобы готовиться хорошо к войне — это не только нужно иметь современную армию, но надо войну подготовить политически.
Что значит политически подготовить войну? Политически подготовить войну — это значит иметь в достаточном количестве надежных союзников и нейтральных стран. Германия, начиная эту войну, с этой задачей справилась, а Англия и Франция не справились с этой задачей» [826].
Характерно, что он говорил это как раз в тот момент, когда в результате его грубых силовых действий на границах СССР вместо потенциально нейтральных стран появились союзники гитлеровской Германии, рассчитывающие с ее помощью восстановить статус-кво. Страна, благодаря его близорукой внешней политике, оказалась практически в полной международной изоляции. А его основным политическим и экономическим партнером была та самая Германия, руководитель которой к тому времени уже установил окончательный срок нападения на него же. Причем до наступления этого срока оставалось всего-навсего полтора месяц. Действия Сталина накануне Второй мировой войны и на первом ее этапе как нельзя лучше подпадали под меткое определение Энгельса:
«Это забвение великих, коренных соображений из-за минутных интересов дня, эта погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий, это принесение будущего движения в жертву настоящему «…» [827]. Вожди СССР никому не доверяли, отвергали любые компромиссы (а если и шли на них, то с сомнительными целями) и не старались дипломатическим путем найти для себя союзников в будущей войне или хотя бы обеспечить нейтралитет со стороны своих ближайших соседей. Они всерьез готовились воевать со всем миром. Советские теоретики своевременно определили, что война, которую могли навязать СССР империалистические державы, будет коалиционной, длительной и потребует максимального напряжения всех сил страны, сочетания различных способов ведения военных действий, применения новых средств вооруженной борьбы. Но реальные военные угрозы стране и ее вероятные противники были правильно определены только в начале осени 1940 г., через год после начала Второй мировой войны.
Военное строительствоВооруженных Сил СССР велось в соответствии с военной доктриной, содержание которой определяло политическое руководство страны. К сожалению, по мере усиления культа личности Сталина обсуждение проектов и предложений по дальнейшему их строительству приняло формальный, бюрократический характер. На деле все решала воля одного человека, под мнение которого подстраивались все остальные и критиковать которого не каждый мог решиться. Это сковывало творческую мысль наших видных теоретиков, а практика зачастую отставала рт теории. Так, в подготовке войск, штабов и командования всех уровней основное внимание уделялось организации и ведению наступательных операций. Оборону, как способ ведения боевых действий, на словах признавали, но допускали ее ведение только в оперативно-тактическом масштабе. Теории ведения оборонительных действий в оперативно-стратегическом масштабе уделялось неправомерно мало внимания. Органы управления и войска не были готовы к решению оборонительных задач в войне с сильным противником. А.А. Свечин был последним, кто осмелился заявить: «‹…› кто не умеет обороняться, не будет в состоянии й наступать; надо уметь с помощью прочной обороны создать предпосылки для наступления ‹…›» [828]. Труды Свечина не нашли отклика, а сам он был расстрелян. Такой способ решения теоретических споров был нередким в то время.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу