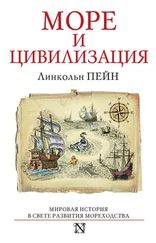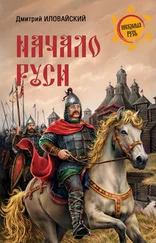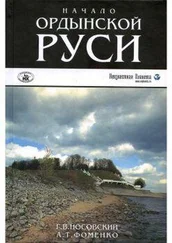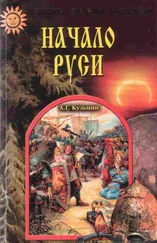В Византии узнали о русских потому, что их храбрые дружины с мечом в руках отстаивали своп права на морское побережье и на самое Черное море, Русь в это же время хорошо знали и на Востоке. В 40-х гг. IX в. Ибн-Хордэдбех пишет, как о чем-то обычном и давно установившемся, о «пути купцов Русов, а они принадлежат к славянам» по Черному морю в Византию («Рум»), по Дону и Волге в Хазарию и далее в Каспий.
В эти же годы Русь стала известна и странам Запада. И это произошло потому, что Русь не «дикий п грубый» народ, как характеризуют его испуганные «ромеи», которые готовы были наградить воинственную Русь какими угодно чудовищными чертами, а народ, создающий свое государство, и, следовательно, прибегающий к дипломатическим переговорам и соглашениям.
И в такой именно связи и стоит первое упоминание о государстве русского народа.
Какие-то варварские межплеменные политические полугосударственные образования имели место и до этого. И быть может, таким образованием и была та область, из которой вышел в поход на Херсонес, Сурож и Керчь князь русский Бравлин «Жития Стефана Сурожского», первый известный нам по имени (я отбрасываю вариант «бранлив» в смысле «воинственный») политический деятель древней Руси. Этой областью был Новгород, и не «ISTeapolis» — Сатарха, древний скифский город в Крыму, а самый настоящий русский Новгород, центр «Славии» арабских источников IX–X вв., Новгород на Волхове, второй центр древней Руси мусульманских писателей. И обычные возражения против данного предположения, строящиеся на том, что новгородскому князю до Сурожа далеко, да и как он мог попасть в Крым, когда еще не проторена была дорога даже в Киев, что сделают лишь Аскольд и Дир, отпадают, так как великий водный путь из «варяг в греки» уже начал складываться, уже установились киевско-новгородские связи, прослеживаемые по вещественным памятникам, а именно кладам монет, а это не могло не привести к естественной тяге «восточных варваров к восточному Риму» (К. Маркс), а следовательно, к походам русских дружин на византийские владения.
И если переход Аскольда и Дира из Новгорода в Киев не вызывает у скептиков сомнений, не вызывает даже сомнений поход аскольдовых дружин на Византию, то почему надо отказать в этой возможности Бравлину?
«Житие Стефана Сурожского» в этой своей части, как показали труды В. Г. Васильевского, — памятник, не менее правдивый и ценный, нежели наши древнейшие летописные своды.
Высказанное выше — лишь предположение, хотя и строящееся на основании такого ценного источника, как «Житие Стефана Сурожского».
Но в 30-х годах IX в. появляется уже весьма обстоятельное известие о древнерусском государстве.
В Вертинских анналах под 839 г. мы читаем рассказ о том, как император Людовик I Благочестивый принимал послов византийского императора Феофила, халкидонского епископа — митрополита Феодосия и спафария Феофания. Это было 18 мая 839 г. в городе Ингсльгейме.
«Послал он (Феофил, — В. М.) с ними (послами, — В. М.) также неких (людей), которые говорили, что их, то есть их народ, зовут Рос (Rhos), и которых, как они говорили, царь их, по имени Хакан (Chacanus, — ), отправил к нему (Феофилу) ради дружбы. В упомянутом письме (Феофил) просил, чтобы император милостиво дал им возможность воротиться (в свою страну) и охрану по всей империи, так как пути, какими они прибыли к нему в Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных и диких племен, и он не желал бы, чтобы они, возвращаясь по ним, подвергались опасности». [44] Monumcnta Gennaniac hislorica, scr. I, стр. 434
Далее Бертинские анналы повествуют о том, как император расследовал причину их прибытия и, по-видимому, не совсем удовлетворенный сообщенными ему сведениями продолжал допытываться, «чтобы можно было достоверно выяснить, с добрыми ли намерениями они пришли туда или нет; и он поспешил сообщить Феофилу через помянутых послов и письмом также и о том, что он их из любви к нему охотно принял, и если они (русы) окажутся людьми вполне благожелательными, а также представится возможность им безопасно вернуться на родину, то они будут отправлены (туда) с охраною; в противном же случае они с (особыми) посланными будут направлены к его особе (Феофилу), с тем, чтобы он сам решил, что с таковыми надлежит сделать». [45] Там же.
Это сообщение Бертинских анналов Пруденция породило обширную и противоречивую литературу. Норманисты использовали его в своих целях, договариваясь до того, что в названии повелителя русов «Chacanus» видели скандинавское имя Гакон. Мы подойдем к рассказу Бертинских анналов с другой стороны.
Читать дальше