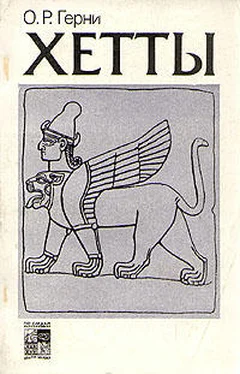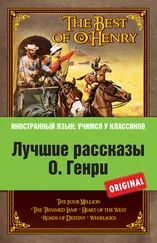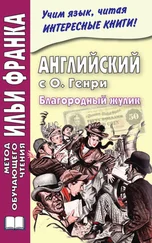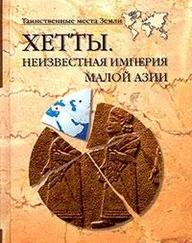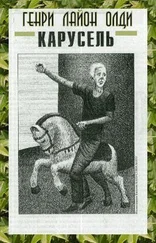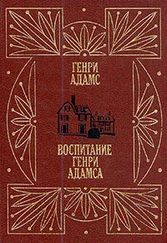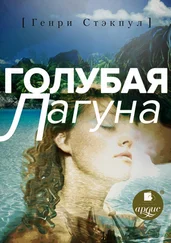То, что ближайшая деревня ответственна за компенсацию семье жертвы, если убийца сбежал, было всегда широко распространенным обычаем в восточных странах. Существуют параллели в кодексе Хаммурапи и в средневековом исламе; сообщалось также, что один араб, работавший на раскопках в Мосуле, выражал намерение убить кого попало в соседней деревне за то, его его родственник был убит там. Во Второзаконии (ХХ 1—10) старейшинам ближайшей деревни предписывается очистить себя церемониальной клятвой от кровавой вины; подразумевается, что тем самым должна очиститься и деревня, которая иначе была бы ответственна за преступление. Уникальной чертой хеттского закона было установление предела в 3 данны, за которым ответственность прекращается.
Смысл 5–й статьи неясен. Можно было бы полагать, то смерть купца в далеких странах Луоии и Пале требовала бы более дешевого компромиссного соглашения, чем у себя на родине, в Хатти, ибо, путешествуя в такой дали, купец подвергает себя большему риску; но такой смысл с трудом вычитывается из текста, главным образом потому, что есть сомнения в правильности прочтения чисел.
4. Коллективная ответственность
Мы уже видели, что следы кровной мести все еще сохранялись в хеттском обществе. Это же касается и веры в то, что вина распространяется на все семейство обидчика и что все члены семьи могут подвергнуться наказанию.
В хеттских законах единственный след этого принципа можно найти в уже упомянутой статье 173, в которой устанавливается, что наказание за неповиновение приказу царя распространяется на «дом» преступника, т. е. на всю его семью и домашних. Во всех остальных частях кодекса неизменным правилом является индивидуальная ответственность.
Впрочем, цитировавшийся выше отрывок, иллюстрирующий положение рабов в хеттском обществе, ясно показывает, что принцип коллективной ответственности все еще действовал применительно к рабам: «Если ему случится умереть, то он умрет не один, а с ним умрет и его семья». В том же тексте проводится тесная параллель между отношением раба к своему хозяину и отношением человека к богам; поэтому нечего удивляться, если мы найдем, что божье возмездие систематически воспринимается как распространяющееся на всю семью человека и на всех его потомков (ср. Исход XX. 5). Однако вне религиозной сферы коллективное возмездие встречается крайне редко.
Судя по хеттскому законодательству, организация семьи носила обычный патриархальный характер. Власть мужчины над своими детьми иллюстрируется следующим положением: если он убил ребенка, то должен отдать за него своего сына (ст. 44А); сюда же относится то обстоятельство, что отец вправе «отдать» свою дочь жениху. Его власть над женой явствует из всей фразеологии, связанной с браком; жених «берет» себе жену и затем «владеет» ею; если она застигнута в прелюбодеянии, он вправе распорядиться ее судьбой.
Мы знаем, что в некоторых частях Малой Азии, а именно среди ликийцев, матрилинейная система существовала еще во времена Геродота; возможно, что некоторые привилегии, которыми пользовались женщины у хеттов, отражают следы этой более ранней системы. Так, например, один довольно темный закон (ст. 171) предусматривает некоторые условия, при которых мать может отречься от своего сына, а по другому закону (ст. 28–29) она решает вопрос о замужестве дочери совместно с отцом. Возможно также, что весьма независимое положение хеттской царицы имеет сходное про исхождение.
Брачные обычаи хеттов были, по-видимому, очень схожи с вавилонскими. Первым этапом была помолвка; она сопровождалась подарком от жениха. Однако помолвка не налагала строгого обязательства, ибо девица была вольна выйти замуж за другого человека, с согласия родителей или без оного, лишь бы первоначальному жениху в возмещение ущерба был возвращен его подарок. Сама женитьба обычно сопровождалась символическим подарком (по-хеттски кусата) от жениха семье невесты; это в точности отвечает вавилонскому терхату. В силу различных причин было бы, вероятно, ошибочно рассматривать этот подарок как «плату за невесту» и как доказательство того, что хеттская и вавилонская женитьбы первоначально относились к типу как называемого «покупного брака». Со своей стороны, невеста получала приданое (по-хеттски ивару) от своего отца. Если после этого жених или семья невесты отказывались от совершения брака, это было равносильно невыполнению договора: соглашение аннулировалось и виновная сторона наказывалась; жених лишался своего кусата, а семья невесты выплачивала жениху двух или трехкратную компенсацию. Обычно молодожены устраивались жить своим домом, но считалось правомерным и то, что жена оставалась в доме своего отца — обычай, который мы находим у ассирийцев. Прелюбодеяние жены после вступления в брак каралось смертью.
Читать дальше