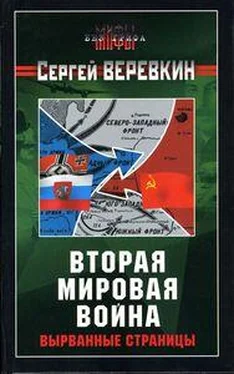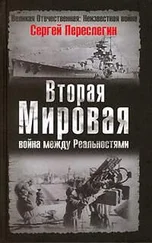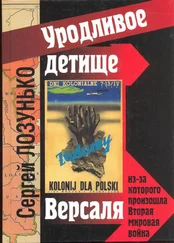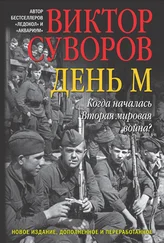Совершенно неожиданно новенькие, только-только начавшиеся выпускаться германской военной промышленностью штурмовые винтовки, современные и отвечающие всем требованиям ведения боя, стали причиной перерыва стрельбы во время боя, к ним сразу катастрофически стало не хватать боеприпасов, а старые патроны к этим винтовкам не подходили. И такое положение сложилось уже в октябре и ноябре 1944 года.
И в то же время в этих условиях, в условиях окружения, «котла» германские командиры находили возможность заботиться о своих солдатах.
Несмотря на все более вырисовывающуюся нехватку солдат на фронтах, на все более угрожающее положение в этой области, во всех частях солдатам продолжали давать отпуска домой, если часть не выходила с фронта (не из боев, а с фронта!) несколько месяцев. Отпуска давали даже в «котлах», даже в окружениях! Один из солдат Вермахта вспоминал, что ему в январе 1945 года (вдумайтесь, Уважаемый Читатель, — в январе, через три месяца после полного окружения войск в «Курляндии» и всего за какие-то четыре месяца до полной капитуляции германских войск в войне, до победы!) командование дало отпуск «за доблесть».
Это менее чем за четыре месяца до, капитуляции? Отпуск из окружения? Из «котла»?!
При этом ссылка в приказе об отпуске «...за доблесть...» была обязательна в силу того факта, что с лета 1944 года, после высадки англо-американских войск во Франции, обязательные регулярные отпуска для солдат и офицеров, с их поездкой на родину — в Германию, были отменены, и теперь их можно было получить лишь «на исключительных основаниях». Например, «за доблесть». Такими исключительными основаниями считались «особые заслуги, включая уничтожение вражеского танка средствами ближнего боя».
В Красной Армии отпуска офицерам, да и вообще никому и никогда не давались. Тем более из окружений, из «котлов»!
И при этом солдаты и офицеры не только в отпуска эти уходили, но и возвращались исправно в те же части, откуда они ушли в отпуск. Даже если эта часть находилась в «котле», в окружении!
И при этом как железнодорожная система, так и морской транспорт Германии нормально функционировали буквально до самых последних дней войны.
Суда, большие и малые, регулярно, будто и не было войны, курсировали между Виндавой (Вентспилсом), Мемелем (Клайпедой), Данцигом (Гданьском) и Штеттином (Шчеччинем, по-русски Щецином), гостиницы принимали отпускников в свои гостеприимные объятия, а железнодорожные поезда из Данцига и Штеттина уносили их в глубь Германии, будто и не стояли в нескольких десятках километров от Данцига, Мемеля войска мощнейшей Красной Армии, а армады американских «летающих крепостей» не кружили и не налетали, словно стаи коршунов, на промышленные и гражданские объекты Германии.
* * *
А где же неутомимый и неугомонный капитан-герой моряк-подводник Маринеско, лихо и бесстрашно гоняющийся в надводном положении на своей подводной лодке за вражескими судами, окруженными мощной охраной из эсминцев и торпедных катеров, не то что в открытом море, а в самой гуще вражьих стай — в Данцигской бухте? В той самой Данцигской бухте, куда так буднично, по-мирному, приплыли отпускник и его спутники. Или на худой конец где его боевые товарищи, такие же отважные герои подводники-снайперы, что сразу тремя торпедами и без единого промаха?
Непонятно...
Или где же наши советские соколы — бомбардировщики, штурмовики да истребители, ни разу не показавшиеся за долгие восемь часов перехода рыбацкого судна по прибрежным районам Балтийского моря даже на горизонте?
Или это только «мессеры» могут кружить, а «наши» так не могут, не умеют?
Второй раз непонятно...
* * *
Что же касается выражения «бои до последнего дня войны», то это не аллегория и не красивое словцо! Наступательные бои продолжались и после падения Берлина! Что само по себе бессмыслица и преступление! Со всех точек зрения, военной, политической, моральной, экономической, общечеловеческой, практической. Просто с точки зрения здравого смысла!
Сами немцы насчитали за все время существования «Страны Kurland» — с октября 1944-го по 8 мая 1945 года — шесть битв за «Курляндию»! Шесть генеральных наступлений силами всех войск Прибалтийского фронта (и это при том, что деваться немцам из «Курляндии» было некуда! Некуда!. И все эти битвы за «Курляндию» заканчивались с одним и тем же, можно сказать, однообразным, если бы он не звучал зловещим, реквиемом по бесцельно, бездушно и бессмысленно угробленным простым советским солдатам и офицерам — русским, украинским, белорусским, казахским и еще нескольким десяткам других национальностей). Более того, последнее, шестое полномасштабное наступление «Советов» на Курляндском фронте — шестая битва за «Курляндию» (при этом, по немецким подсчетам, это была уже седьмая битва, а фактически восьмая битва за «Курляндию») — было назначено маршалом Говоровым и началось шестого мая 1945 года, когда было уже известно, что менее чем через два дня, послезавтра, состоится формальная процедура оформления окончания войны — Акт капитуляции и Германия капитулирует безо всяких боев. Капитулирует безо всяких боев и потерь. Более того, для участия в этом последнем наступлении из Германии были переброшены танковые части Красной Армии, которые освободились после взятия Берлина.
Читать дальше