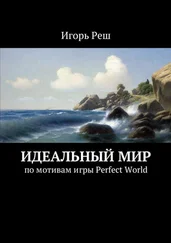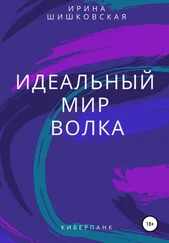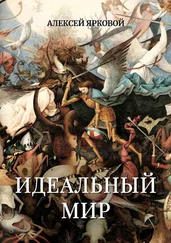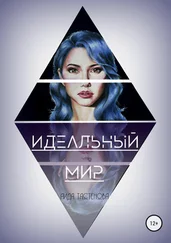Более того, работу все труднее отделить от досуга. Исследование, проведенное Гарвардской бизнес-школой, показало, что благодаря современным технологиям руководители и специалисты в Европе, Азии и Северной Америке проводят от 80 до 90 часов в неделю «за работой либо “следят” за работой и остаются на связи» [228] Derek Thompson, "Are We Truly Overworked? An Investigation — In 6 Charts", The Atlantic (June 2013) http://www.theatlantic.om/magazine/archive/2013/06/are-we-truly-overworked/309321/.
. Согласно же корейскому исследованию, из — за смартфонов средний работник трудится дополнительные 11 часов в неделю [229] Yoon Ja-young, "Smartphones leading to 11 hours' extra work a week", Korea Times http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2016/06/488_207632.html
.
Можно с уверенностью сказать, что прогнозы великих не вполне сбылись. Даже близко не приблизились к реальности. Азимов, возможно, был прав в том, что в 2014 г. «работа» станет самым примечательным словом в нашем словарном запасе, но совершенно не по тем причинам. Нам не скучно до смерти; мы вусмерть заработались. Армия психологов и психиатров борется не с распространяющейся скукой, а с эпидемией стресса.
Пророчество Кейнса уже давным — давно сбылось. Около 2000 г. такие страны, как Франция, Нидерланды и США, были впятеро богаче, чем в 1930 г. [230] Эти подсчеты были проведены с помощью сайта http://www.gapminder.org
И тем не менее самым серьезным вызовом нашего времени являются не досуг и скука, а стресс и неопределенность.
Капитализм кукурузных хлопьев
«Там деньги приносят хорошую жизнь, — воодушевленно описывал средневековый поэт мифическую Страну изобилия Кокань, — и самые богатые — те, кто дольше прочих спит» [231] Цит. по: Herman Pleij, Dromen van Cocagne. "Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven" (1997), c. 49
. В Кокани год представляет собой бесконечную череду праздников: Пасха, Троицын день, День св. Иоанна, Рождество следуют друг за другом по кругу. Всякого желающего работать запирают в погребе. Даже произнести слово «работа» — уже серьезное преступление.
Как ни странно, люди Средневековья, вероятно, были ближе нас к вожделенной праздности Страны изобилия. В 1300 г. календарь был полон праздников и празднеств. По оценкам гарвардского экономиста и историка Джульет Шор, праздничные дни составляли не менее одной трети года: в Испании целых пять месяцев, а во Франции — почти шесть. Крестьяне в основном работали ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы прокормиться, — и не больше. «Жизнь текла медленно, — пишет Шор. — Наши предки, может, и не были богаты, но у них было предостаточно свободного времени» [232] Juliet Schor, "The Overworked American. The Unexpected Decline of Leisure" (1992), c. 47. Стоит отметить, что охотники и собиратели трудились, вероятно, еще меньше. По оценкам археологов, их рабочая неделя составляла не более 20 часов
.
Так куда же подевалось все это время?
На самом деле ответ простой. Время — деньги. Экономический рост позволяет либо больше отдыхать, либо больше потреблять. С 1850 по 1980 г. нам удавалось получить и то и другое, но после 1980-го росло по большей части только потребление. Даже там, где реальные доходы перестали увеличиваться и усилилось неравенство, безудержное потребление продолжилось, уже в кредит.
И именно это и было главным доводом против сокращения рабочей недели: «Мы не можем себе такого позволить». Больше досуга — чудесный идеал, но он попросту слишком дорог. Если мы все станем работать меньше, наш уровень жизни обрушится.
Но так ли это?
В начале XX в. Генри Форд провел ряд экспериментов, показавших, что производительность рабочих его завода наиболее высока при 40 — часовой рабочей неделе. Дополнительные 20 часов работы оправдывают себя в течение еще четырех недель, но после этого производительность снижается.
Эксперименты Форда были продолжены другими. 1 декабря 1930 г., когда бушевала Великая депрессия, изобретатель кукурузных хлопьев магнат У. К. Келлог решил ввести на своей фабрике в Батл-Крик, штат Мичиган, шестичасовой рабочий день. Затея оказалась невероятно успешной: Келлог смог нанять еще 300 рабочих, а число несчастных случаев сократилось на 41 %. Более того, производительность его работников заметно повысилась. «Это для нас не просто теория, — гордо рассказал Келлог местной газете. — Себестоимость единицы продукции понизилась настолько, что за шесть часов мы можем платить столько же, сколько раньше платили за восемь» [233] Benjamin Kline Hunnicutt, "Kellogg's Six-Hour Day" (1996), c. 35
.
Для Келлога, как и для Форда, укорочение рабочей недели было просто вопросом эффективного ведения бизнеса [234] В своей классической работе «Богатство народов» Адам Смит писал: «Человек, который работает не спеша и потому способен работать постоянно, не только дольше сохранит свое здоровье, но в течение года выполнит большее количество работы». (Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2017.)
. А вот для жителей Батл-Крик оно сыграло куда более важную роль. У них, писали в местной газете, впервые появился «настоящий досуг» [235] Benjamin Kline Hunnicutt, "Kellogg's Six-Hour Day" (1996), c. 62
. Родители смогли больше времени проводить с детьми. Люди начали больше читать, заниматься садоводством или спортом. Вдруг церкви и общественные центры заполонили горожане, у которых высвободилось время на частную жизнь [236] Восьмичасовой рабочий день вновь ненадолго ввели на заводах Kellogg в ходе Второй мировой войны, но после ее окончания подавляющее большинство работников проголосовало за возобновление шестичасового рабочего дня; только тогда, когда управляющим фабрики по производству кукурузных хлопьев Kellogg было позволено самим устанавливать количество рабочих часов, они один за другим вновь вернули восьмичасовые смены. Но, согласно профессору Бенджамину Клайну Ганникатту из Университета Айовы, в итоге именно стремление работать и потреблять в том же режиме, что и окружающие, нанесло удар по шестичасовому рабочему дню. Тем не менее последние 530 рабочих отказались от своих шестичасовых смен только в 1985 г.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу