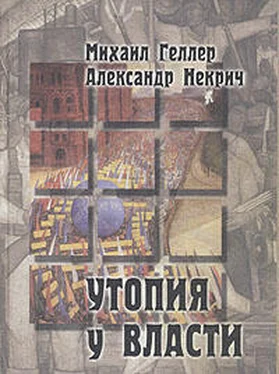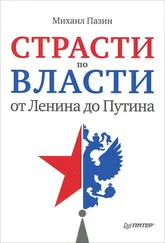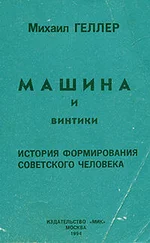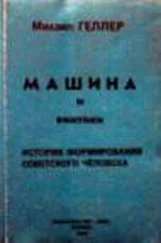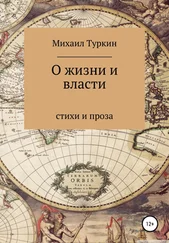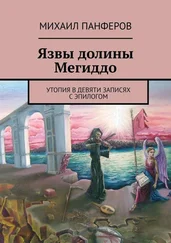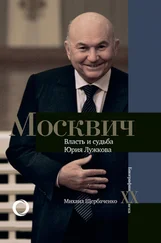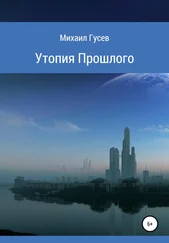Глава вторая. Из царства необходимости в царство свободы (1918—1920)
Н. Бердяев ошибался, полагая, что большевизм «оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году». Большевизм победил легко, почти без сопротивления ибо предлагал утопию всего, всем и сразу. «Облик правды — грозен, — писал испанский философ Мигуэль де Унамуно, — народ нуждается в мифах, в иллюзиях, в том, чтобы его обманывали. Правда — нечто страшное, невыносимое, смертельное». Большевики дали иллюзию мира, земли, хлеба. Реальностью стала новая война, конфискация зерна, голод и невиданный террор.
Незадолго до Октябрьского переворота Ленин в финляндской тиши составляет проект переустройства России, сочиняет свою утопию — «Государство и революция» . Он придавал своему труду такое значение, что написал Каменеву письмо-завещание обязательно опубликовать брошюру, если автор будет убит. Исходя из «учения Маркса-Энгельса» и взяв в качестве практического образца Парижскую коммуну, Ленин рисует коммунистическое государство, которое возникнет после пролетарской революции. В этом государстве не будет армии, не будет полиции, все чиновники будут выборными, причем функции управления государством станут такими простыми, что управлять сможет каждый, в том числе — каждая кухарка. Чиновники, для Ленина это важно, будут зарабатывать не больше квалифицированных рабочих. Автор «Государства и революции» признает, что победа пролетариата не будет означать немедленного создания коммунистического общества: необходим будет некоторый переходный период. В этот период место буржуазного государства займет диктатура пролетариата. Она необходима, подчеркивает Ленин «не в интересах свободы, а в интересах сокрушения врагов». Но у диктатуры пролетариата две функции: «подавление сопротивления эксплуататоров и руководство массами населения». Первая функция казалась Ленину очень простой, ибо подавление ничтожного меньшинства эксплуататоров производиться будет огромным большинством населения — трудовым народом. Легкой была и вторая: трудовой народ должен «подчиниться вооруженному авангарду... пока не приучится соблюдать элементарные условия социального существования без насилия и подчинения».
Сразу же после прихода к власти Ленин сталкивается с действительностью. Реальность подвергает утопию испытанию. Прежде всего, новой власти предстояло разрешить проблему войны, оказавшуюся роковой для Временного правительства. В декабре начались в Брест-Литовске переговоры с Германией. Впервые за дипломатический стол сели представители двух цивилизаций — старой и новой. Принц Макс Баденский пишет в своих мемуарах, — для него это символ грядущих времен, — что его кузен принц Эрнст Гогенлоэ, член германской делегации, был посажен за обедом рядом с мадам Биценко: «она это заслужила, убив министра». Анастасия Биценко действительно убила в 1905 году министра и как заслуженная террористка представляла партию левых эсеров в делегации. Встреча за обеденным столом принца Гогенлоэ и мадам Биценко, за дипломатическим — Льва Троцкого и генерала Гоффмана, — была встречей и столкновением утопии и реальности. Большинство в ЦК партии считало, что достаточно заявить о прекращении войны и можно спокойно заняться строительством коммунизма. Немцы потребовали реальность: территории Польши, Литвы, часть Латвии и Белоруссии. Н. Бухарин, выражая взгляды «левых коммунистов», составляющих значительную группировку в ЦК, принципиально отрицает допустимость компромисса с империалистами и настаивает на «революционной войне» с Германией, убеждая, что она зажжет «мировой пожар». Троцкий выдвигает знаменитую формулу: войны не ведем, мира не подписываем, собравшую большинство в ЦК. Ленин, оказавшись в меньшинстве, аргументирует реалиями: у нас нет армии, мы бессильны, необходимо заключить мир. Его соратники, его ученики ослеплены утопией. Они не понимают того, что очевидно для Ленина: осуществить утопию можно, лишь имея власть. Этот аргумент он использует как важнейший, решающий, самый убедительный. Когда немцы, воспользовавшись заявлением Троцкого: войны мы не ведем, двинулись в глубь страны, и предъявили затем ультиматум, Ленин настаивает на немедленном его принятии. Он объясняет: «Если бы немцы сказали, что требуют свержения большевистской власти, тогда, конечно, надо воевать». Только в том случае, если бы немцы посягнули на власть большевиков, только тогда нужно было с ними драться. Только за власть. Ни в коем случае за территорию или другие «устаревшие» понятия. В. Бонч-Бруевич, рассказывая об отказе Троцкого подписать мирный договор, спрашивает: «Чем объяснить было такую нелепость?» И отвечает: «Более всего говорили, что здесь сыграли злую шутку ложно-патриотические и национальное предрассудки: никто из комиссии, и в том числе Л. Д. Троцкий, не хотели брать на себя печальную ответственность приложить свою руку под унизительным миром, который мог истолковываться глупенькими болтунами, как «предательство отечества», как нанесение прямого и непосредственного вреда России, как государству».
Читать дальше