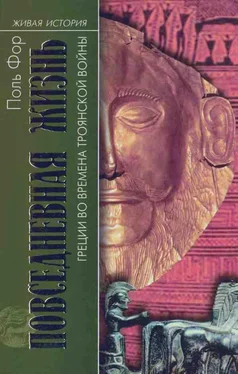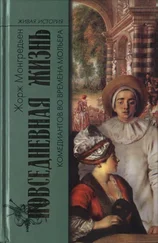В XIII веке до н. э. упоминаются масла из шалфея, папируса и розы. Оливковое масло с небольшой добавкой соли, чтобы не прогоркло, чаще всего использовалось как эксципиент, основа, или, если пользоваться профессиональным жаргоном нынешних специалистов, — «тело» и «шлейф» духов. С помощью камеди или древесного сока мастер «привязывал» к нему летучие вещества, обычно — сок какой-нибудь части растения: корневища, стебля, листьев, цветов, плодов и даже семян. Древний парфюмер не знал перегонного куба, но применял конденсацию и сцеживание. Он использовал три и сегодня не вышедших из употребления способа добывать из растений ароматную субстанцию: отжим через хорошенько выкручиваемую ткань, вымачивание и выпаривание, извлечение эфирных масел холодным методом. Уже тогда он экспериментировал, пытался соединять разные вытяжки, чтобы создать новый аромат — более тонкий, волнующий и стойкий. Среди упоминаемых на микенских табличках ингредиентов — ирис, шафран, цвет винограда, магнолия, айва, ароматный тростник, анис и, вероятно, сокращенными значками обозначены укроп, крушина, скипидарное дерево, можжевельник и иссоп (табличка из Пилоса, Un 219). Наконец, из Сирии и Финикии привозили эссенции мирры, корицы, имбиря.
Процитируем три отрывка из бухгалтерских «ведомостей», более красноречиво повествующих о мастерстве и познаниях древних парфюмеров, чем все пустые горшки, найденные археологами: «Кокал доставил Эвмеду следующее количество оливкового масла: 18 больших мер (по 39 литра?) для притираний. Получено из мастерской: 38 сосудов» ( PY, Fr 1184). «Вот что Алиот дал для варки Фиесту, мастеру притираний, чтобы составить благовония: 6 мер кориандра, 6 — чуфы, 16 связок ириса, 2 и ½ меры ароматных ягод (можжевельника?), 20 мер вина, 2 — меда, 2 связки укропа, 2 меры перебродившего вина (?)» ( PY, Un 267). Известно, что в римскую эпоху шафран, аир, чуфа, мед и вино входили в состав духов на основе розового масла. И, наконец, следующий текст: «Передано Филею, парфюмеру царицы: 2 и ½ меры чуфы, 2 связки укропа, 10 — ириса (2 меры?) и 6/10 — ароматных ягод» ( PY, Un 249). Если тогдашний грек умел делать достаточно крепкое вино, то, возможно, он был недалек и от того, чтобы составить рецепт наших одеколонов.
Некоторые крестьянки Пелопоннеса и Крита (например, в окрестностях Апокорона и Иерапетры), унаследовав секреты древних парфюмеров, выпаривают листья и ягоды аполлонова лавра ( Laurus nobilis L .). Из них они получают масло с горьковатым запахом, которым натирают волосы, и они остаются замечательно мягкими и густыми всю жизнь. Что до меня, то я не сомневаюсь: часто употребляемое в эпосе прилагательное eulokamos , «прекраснокудрый», можно объяснить не чем иным, как существованием подобной практики в микенскую эпоху. С некоторых пор стало понятно и другое, когда-то загадочное греческое прилагательное — rhododaktylos «розовоперстая»: у нимф в настенных росписях Санторина, датируемых XVI веком, ногти окрашены в розовый цвет. Румянились женщины красным экстрактом алканны. Занятно, что имя Фиест, проклятого царя Микен и отца узурпатора Эгисфа, в буквальном переводе означает «фабрикант духов» или «мастер притираний».
Можно вообразить, что истинным символом той цивилизации были не львы, украшающие фронтон Микенских ворот, а олеандры, пышно цветущие повсюду, приятные для взора и обоняния, но очень быстро разрастающиеся и слегка ядовитые.
Ремесленники других профессий
Все мастера-ремесленники жили в одном квартале, а их семьи и рабы ютились в нескольких крошечных комнатках рядом с мастерской или лавкой. Секреты ремесла передавались от отца к сыну, ибо существовали целые семьи ремесленников, как, например, семья Ферекла, строителя кораблей, приходившегося сыном плотнику Тектону и внуком столяру Гармону.
Принято считать, что мастерские, использовавшие огонь, располагались в относительном удалении от центра поселения: афинский район Керамик, где жили горшечники, кузнецы, плавильщики, сукновалы и парфюмеры, никогда не смешивался с Акрополем, кварталом храмов, дворцов и дворцовых служб. Кожевники, дубильщики, оружейники, мастера, изготовлявшие кожаные плащи и доспехи, каретники, канатчики, плетельщики сетей, так часто упоминаемые в текстах микенской эпохи, — все они нуждались в воде, жизненном пространстве и сырье, что и удаляло их от Акрополя. Но кого бы мы встретили на узких, извилистых улочках крепости среди носильщиков, детей, рабов, осликов и мулов, нагруженных товарами? Семьи работников и мастеров, обслуживавших царя и богов.
Читать дальше