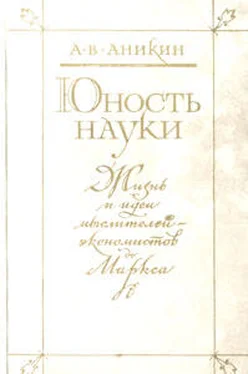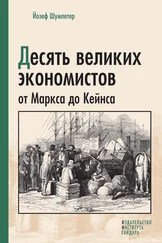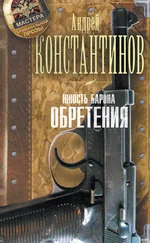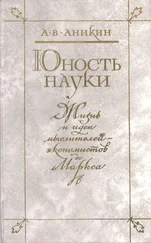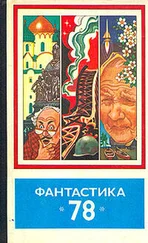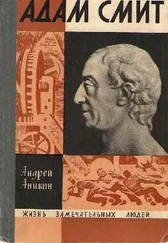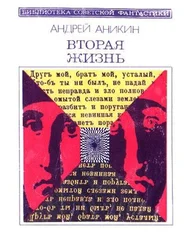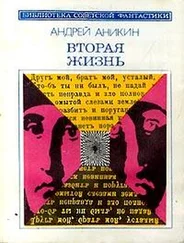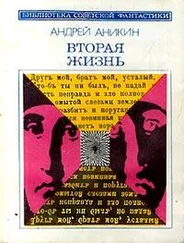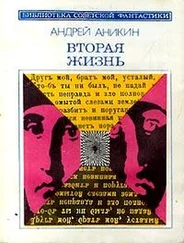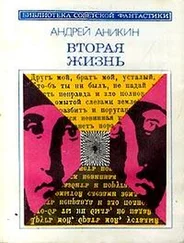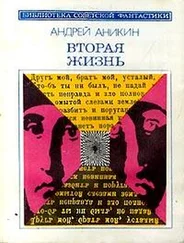Современный американский историк экономической мысли Б. Селигмен писал, что Джевонс «успешно освободил политическую экономию от слова „политическая“ и превратил экономику в науку, изучающую поведение атомистических индивидуумов, а не поведение общества в целом». [14] Б. Селигмен. Основные течения современной экономической мысли. М., «Прогресс», 1968, стр. 326.
Еще яснее суть происшедшего «переворота» в науке будет видна, если мы процитируем слова другого современного буржуазного ученого — француза Эмиля Жамса: «Эти новые классики (так принято в буржуазной литературе называть поименованных выше экономистов. — А. А. ) полагали, в частности, что объектом экономической науки должно быть описание тех механизмов, которые действуют во всех экономических системах, причем надо стремиться не высказывать о них своих суждений. В отношении социальных проблем их основные теории были нейтральны, то есть из них нельзя было извлечь ни одобрения, ни порицания существующих режимов». Новые австрийские экономисты «в своих объяснениях стоимости через предельную полезность нацеливались, в частности, против марксистской трудовой теории стоимости». [15] Э. Жамс. История экономической мысли XX в. М., Изд-во иностр. лит., 1959, стр. 38.
В течение XX столетия буржуазные экономисты развивали технику экономического анализа, основанного на этих принципах. Возникла огромная литература, в которой социальное острие экономической науки сознательно или бессознательно притупляется с помощью «новых» методов. Наука стала забывать свое первоначальное назначение и содержание, хотя и занималась многими интересными проблемами. Таким образом, вопрос о терминах «политическая экономия» и «экономика» — это не спор о словах. Речь идет о коренных принципах.
Глава вторая. Золотой фетиш и научный анализ: меркантилисты
Америка была открыта благодаря погоне европейцев за индийскими пряностями, завоевана и освоена — вследствие их ненасытной жажды золота и серебра. Великие географические открытия были следствием развития торгового капитала и в свою очередь в огромной мере способствовали его дальнейшему развитию. Торговый капитал являлся исторически исходной формой капитала. Из этой формы постепенно вырастал капитал промышленный.
Главным направлением экономической политики и экономической мысли в XV–XVII вв. (в значительной мере и в XVIII в.) был меркантилизм . Если попытаться предельно кратко выразить его сущность, то она сводится к следующему: в экономической политике — всемерное накопление драгоценных металлов в стране и в государственной казне; в теории — поиски экономических закономерностей в сфере обращения (в торговле, в денежном обороте).
«Люди гибнут за металл…». Золотой фетиш сопутствует всему развитию капиталистического строя и является составной частью буржуазного образа жизни и образа мыслей. Но в эпоху преобладания торгового капитала блеск этого идола был особенно ярок. Купить, чтобы продать дороже, — вот принцип торгового капитала. А разница мыслится в форме желтого металла. О том, что эта разница может возникнуть только из производства, только из труда, еще не думают. Продать за границу больше, чем покупается за границей, — вот верх государственной мудрости меркантилизма. А разница опять-таки представляется людям, управляющим государством, и людям, мыслящим и пишущим для них, в виде золота (и серебра), плывущего в страну из-за границы. Если в стране будет много денег, все будет хорошо, говорят они.
Первоначальное накопление
Эпоха первоначального накопления представляет собой предысторию буржуазного способа производства, как меркантилизм — предысторию буржуазной политической экономии. Сам термин первоначальное накопление , видимо, впервые употребил Адам Смит: он писал, что условием роста производительности труда на основе развития многих связанных между собой отраслей производства является первоначальное накопление капитала.
Маркс говорит о «так называемом первоначальном накоплении». Дело в том, что со времен Смита этот термин укоренился в буржуазной науке и приобрел особый, благопристойный для буржуазии смысл: «В незапамятные времена существовали, с одной стороны, трудолюбивые и, прежде всего, бережливые разумные избранники и, с другой стороны, ленивые оборванцы, прокучивающие все, что у них было, и даже больше того… Так случилось, что первые накопили богатство, а у последних, в конце концов, ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры». [16] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 725.
Таким образом, процесс, в итоге которого в обществе выделились классы капиталистов и наемных рабочих и возникли условия для быстрого развития капитализма, изображался буржуазными учеными, современными Марксу, как экономическая идиллия.
Читать дальше