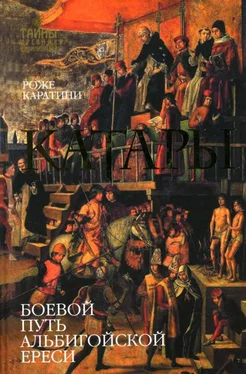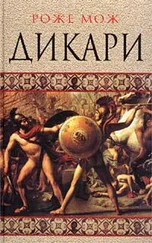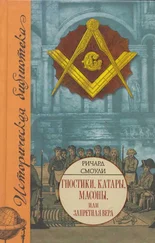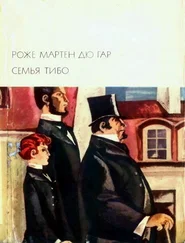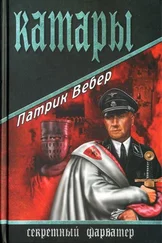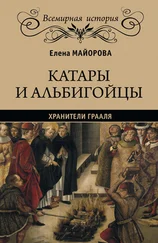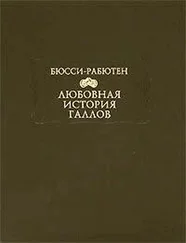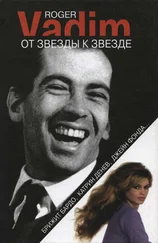Фактически единственным, что святому Доминику, бесспорно, удалось сделать полезного и долговременного для католицизма в Лангедоке, было создание в 1206 году монастыря Пруй (поблизости от Кастельнодари), первоначально предназначавшегося для того, чтобы принимать молодых девиц, которые, будучи воспитанными в еретической вере, под влиянием проповеди брата Доминика вернулись бы в лоно Церкви. «Молите Господа Бога, — попросили они, — чтобы Он открыл нам истинную веру, в которой мы хотим жить и умереть, и чтобы мы были спасены». Если верить легенде, святой ответил им: «Не бойтесь ничего, Господь Бог покажет вам и прогонит того хозяина, которому вы служили до сего дня». И когда он произнес эти слова, демон явился им в образе ужасного черного кота. Святой Доминик основал для юных жительниц Лангедока, возвратившихся к католицизму, этот монастырь, которому годом позже архиепископ Нарбоннский отдал церковь святого Мартина в Лиму и которому впоследствии предстояло обогатиться за счет имущества, конфискованного у местных сеньоров-еретиков.
* * *
Если значительная часть лангедокских горожан и крестьян и посещала, открыто или тайком, «тихие дома» катаров, местная католическая церковь не утратила из-за этого ни своих прихожан, ни своей силы, ни... своих недостатков, из которых самым серьезным была торговля церковными должностями или духовным саном, греховная практика, носившая название симонии , которой охотно предавалась немалая часть высшего лангедокского духовенства (чем, среди прочего, и объясняется успех ереси «чистых» — катаров — в этой области французского королевства). Сам папа Иннокентий III сурово относился к нравам своих епископов. Вот, например, как он говорит о них в одном из своих посланий:
«Это слепцы, безгласные псы, разучившиеся лаять [ понимай: разучившиеся сражаться с грехом ], виновные в симонии, отпускающие грехи богатому и осуждающие бедного. [...] Они набирают бенефиции [ церковные должности, приносящие определенный доход ] и доверяют священство и духовный сан недостойным священникам или не знающим грамоты детям [ тем, кто сам купил их или чьи семьи это сделали ]. Отсюда идет и дерзость еретиков, отсюда и пренебрежение сеньоров и народа к Богу и Его Церкви. В этих местах прелаты стали посмешищем для мирян».
(Иннокентий III, Послания, т. VII, с. 79)
Легко представить, как могли вести себя стремящиеся к монашеской жизни миряне, какими были катары, по отношению к продажному, распутному, опустившемуся католическому духовенству и насколько тем самым была облегчена задача совершенных, переходивших из города в город и из деревни в деревню: они, как и католические епископы, проповедовали любовь к Богу и следование безупречной евангельской морали, но делали это, подавая пример собственной жизнью, а не просто произносили слова, которым противоречили экипажи, нравы и богатство церковников. Тем не менее, если катарская Церковь и отказалась от золота и пышности Церкви католической, она все же была устроена по ее образцу: в каждом церковном округе Лангедока был свой катарский епископ, которому помогали «старший сын» и «младший сын», избранные собранием совершенных этого округа; перед смертью епископ передавал сан старшему сыну, который делался его преемником, младший сын становился старшим сыном, и собрание избирало нового младшего сына; кроме того, в каждом населенном пункте был свой диакон, подчинявшийся катарскому епископу соответствующей провинции, которому оказывали административную и финансовую помощь верующие-миряне, а наиболее богатые из них (как правило, торговцы) обеспечивали содержание общинных домов, одновременно служивших жильем, школами, больницами и монастырями. Таким образом, за несколько лет в юго-западной феодальной Франции, на территории которой появлялось все больше этих монастырей нового типа, сложилось новое общество на религиозной основе, которого, казалось, не могли поколебать ни проповеднические кампании, проводившиеся католическими епископами, ни старания папы, отправившего в катарский край святого Доминика, чье поведение было столь же строгим и безукоризненным, сколь и у самих проповедников-еретиков. Последняя попытка восстановить свою власть в тулузском графстве была предпринята папой в 1206 году, когда он лишил сана за симонию недостойного епископа Тулузского Раймонда де Рабастана, заложившего земли епархии, чтобы расплатиться с заимодавцами, и заменил его провансальским монахом по имени Фульк из Марселя, который прежде был трубадуром и бегал за каждой юбкой (при условии, что она была надета на знатную даму).
Читать дальше