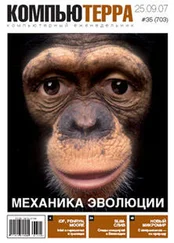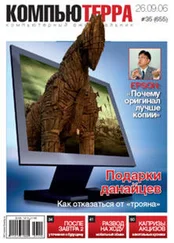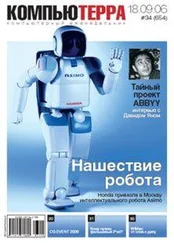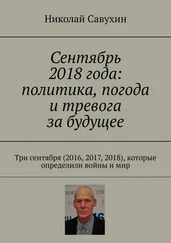В дипломатических документах объявление войны изложено следующим образом: «Лета 7021, учинилася весть к великому князю Василъю, что Жигимонт король, через свое докончанъе и через крестное целованье, посылал к Минли-Гирею царю, чтоб он государеву землю воевал и с ним на государя стоял; и царевичи де крымские, по его наводу, и на государевы украины приходили; а на другой год итти на государя царю, или детем его, а королю сойтись с ним же. И князь великий, с своею братьею и з бояры, приговорил, что пригож ему, не дожидаясь приходу царева и королева в свою землю, дело делати с королем по зиме. И вышел князь великий с Москвы на Литовскую землю ратью, да послал к королю с складною грамотою подьячего Васюка Всесвятцкого, а в грамоте писал свое имя с титлы, а королево без титлы. А в грамоте писал про обидные всякие дела и о том, что королеве паны безчестье учинили, и людей, и казну, и имение ее поймали, и бесерменства на государеву землю наводят…» [84] 1505–1514 гг. Дипломатические сношения великого князя Василия Ивановича с королями Александром и Сигизмундом Казимимровичами // СИРИО. Т. 35.№ 84. С. 488–499.
(выделено мной — А. Л.).
Таким образом, официальным поводом новой вспыхнувшей войны 1512–1522 гг. послужил арест сестры государя Елены Ивановны. Арест происходил в церкви; княгиню хватали за рукава и силой вывели на улицу. Этими действиями был попран закон о неприкосновенности в храме (« безчестье учинили» ). Сложно сказать, пыталась ли великая княгиня действительно выехать в Бряславль, или всё же бежать в Москву под защиту брата. Е. И. Кашпровский [85] Кашпровский Е. И. Борьба Василия III Ивановича с Сигизмундом I Казимировичем из-за обладания Смоленском (1507–1522) // Сб. ист. — филол. об-ва при Ин-те князя Безбородко в Нежине, 1899. С. 209–210.
обратил внимание на то, что высылка казны в пограничный город, доклад её дворецкого Войтеха Клочко и выдвижение русской рати М. Ю. Щуки Кутузова, М. С. Воронцова и А. Н. Бутурлина с Великих Лук [86] «Да с теми же воеводами вместе итить за Смоленеск, да от них итить воевати от Друцка и от Орши по великого князя наказу к Брясловлю и к Дрисвяту Федору Юрьевичю Щуке Кутузову да Михаилу Семеновичю Воронцову, да Ондрею Микитину сыну Бутурлина. А с Лук Великих велел князь великий итить к Брясловлю же по полком: В большом полку князь Василей Семенович Одоевской. В передовом полку воевода князь Семен Федорович Курбской. В правой руке князь Данила Бохтеяр да с ним Иван Мисинов. В левой руке князь Петр Елецкой да Ондрей Кутузов. В сторожевом полку Иван Ондреев сын Колычов» . Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 48.
к Бряславлю свидетельствуют о будто бы готовящемся побеге. Однако это всего лишь догадки исследователя. Решение Елены выехать в Бряславль может объясняться желанием найти защиту в стенах своего замка. Королева писала ранее, что «Жигимонт король ее не во чти и не в береженье держит, да и сила от короля и от панов рад чинитца великая, и городы и волости выпустошили» . [87] 1505–1514. Дипломатические сношения великого князя Василия Ивановича… // СИРИО. Т. 35. С. 490. № 84
В том, что казна Елены была отправлена в её же имение, дворецкий В. Клочко усмотрел признаки подготовки побега, после чего виленский и троцкий воеводы М. Радзивилл и Г. Остикович особо не церемонились и выволокли сестру московского государя из церкви.
Выдвижение русской рати к Бряславлю относится уже к началу боевых действий и могло преследовать цель перехвата казны королевы. Так или иначе, но в этом «безчестии королеве» Василий Иванович нашел серьезный повод пойти войною на обидчика. Наконец, ещё одним поводом для войны были постоянные подстрекания («накупки») крымских царевичей Ахмет-Гирея и Бурнаш-Гирея напасть на южные рубежи России.
По описаниям того времени, крепость была защищена «самим потоком [Днепра], болотами и также человеческими усилиями, укреплениями и дубовыми бревнами, сложенными четверной стеной и наполненными смолистой глиной, и даже лишенной покрытых площадей, рвом и высоким валом обнесена вокруг, так что виднеются только крыши домов. И ни ударами бомбард, ни стенобитными орудиями, ни различными подкопами, ни огнем или серой нельзя их ниспровергнуть, ни взоити на них» [88] Anno domini millesimo quingentesimo quartodecimo // AT. T. Ill № I. P. 2.
.
Описание укреплений Смоленска подтверждается «Новым известием о Литве и московитах» ( «New Zeytung auff Litten vund von den Moskowitter» ), составленным в 1513 г.: «…крепость не имела каменной стены, но только была окружена дубовыми загородками, наполненными очень толсто для сопротивления камнями и землею; через эти перегородки не проникло ни одно ядро…» [89] Рябинин И. С. Новое известие о Литве и московитах: К истории второй осады Смоленска в 1513 г. // Чтения в Обществе истории и древностей Российских (далее — ЧОИДР). 1906. Кн. III. Смесь. С. 6.
. В псковских летописях замечено, что город имел «твердость стреминами гор и холмов высоких затворенно и стенами велми укреплен» . [90] Псковские летописи. / Подг. к печати А. Насонов. М., Л., 1941. Вып. 1. С. 97.
Читать дальше

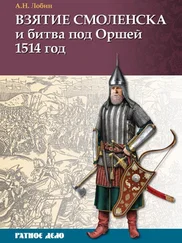
![Законы РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации [По состоянию на 1 сентября 2014 года]](/books/120973/zakony-rf-ugolovnyj-kodeks-rossijskoj-federacii-p-thumb.webp)