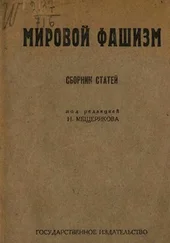Это желание нравиться чужим народам — отличительная черта Александра I. Можно думать, что знаменитые конституционные мечтания юных лет рассчитаны были на завоевание популярности в Европе. Идея предстать перед нею более свободолюбивым, чем Наполеон, заключала одно из средств борьбы с ним. Только этим и можно объяснить, что, не дав русскому народу никакого государственного преобразования, он щедро раздавал конституции Ионическим островам, Финляндии, Польше, да не какие-нибудь, а самые либеральные, [194] самые «передовые». Он же настоял и на даровании «Хартии» французам при воцарении Луи XVIII.
* * *
Само собой разумеется, чтобы соперничать с Наполеоном, надо было самому быть недюжинным человеком, и Александр впоследствии получил высокую оценку от своего противника. «Русский император, — говорил Наполеон, — человек несомненно выдающийся; он обладает умом, грацией, образованием. Он легко вкрадывается в душу, но доверять ему нельзя… Это настоящий грек древней Византии».
Кроме огромных дипломатических способностей и умения неуклонно стремиться к поставленной цели, он отличался еще одним несравненным даром, которым, пожалуй, никто из деятелей его времени не обладал, — искусством привлекать и очаровывать людей. «Это сущий прельститель», — сказал о нем Сперанский. Не отдельных лиц, но целые народы умел он располагать к себе и держать под обаянием своей личности. Сам Бонапарт, по-видимому, испытывал на себе силу его чар, признавшись: «Быть может, он меня лишь мистифицировал, ибо он тонок, фальшив и ловок».
Из всех прозваний, данных Александру, — «Сфинкс», «Блестящий метеор севера», «Коронованный Гамлет» — самым метким надо признать то, которое дал Наполеон: «Северный Тальма». Тальма — знаменитый актер того времени. Действительно, вся жизнь этого человека была сплошная игра, сплошной ряд перевоплощений и эффектных сцен. Поражать, изумлять, производить впечатление — было его страстью.
Жителей Вены в 1815 году он привел в неистовый восторг, встав во главе гвардейской части и салютуя обнаженной шпагой императору Францу. Никто лучше его не умел заставить говорить о себе в желательном для него смысле. Так, слухи о его склонности к католицизму поддерживались искусно разыгранными сценами, вроде той, когда он вдруг опустился на колени перед католическим прелатом князем Гогенлоэ. Был также случай в маленьком польском местечке, когда священник, войдя в пустой костел, увидел перед [195] амвоном молитвенно склонившегося русского офицера, оказавшегося императором всероссийским.
До какой степени игра проникала всю его жизнь, можно судить по эпизоду в Вильно в 1812 году. Два офицера, боясь опоздать на церемонию во дворце, после которой должно было состояться богослужение в присутствии императора, решили пройти в зал кратчайшим путем через пустую церковь. Лакей остановил их: там государь. Что же государь может делать в пустой церкви? Он репетирует богослужение. Вопрос о том, как стоять в церкви и какую принять осанку, имел не меньшую важность, чем указ о вольных хлебопашцах.
И, конечно — костюм. Ни один из русских царей не был внимателен к своей наружности больше, чем Александр. Черный мундир он носил единственно потому, что это выгодно оттеняло белизну его лица. Все мемуаристы отмечают перемену, происшедшую в главной квартире в Вильно, когда туда прибыл император. Во время тарутинского сидения и всей эпопеи преследования Наполеона сам Кутузов и весь штаб вели спартанский образ жизни, простота в одежде дошла до предела: офицера порой трудно было отличить от солдата. С приездом царя и его свиты опять заблистали мундиры, аксельбанты, шитье, плюмажи. Император выходил всегда подтянутый, аккуратный, блестящий. Таким он прошел через всю Европу. На поля сражений являлся разодетым, как на бал, и вел себя там, как на подмостках. Принимая под Кульмом шпагу от взятого в плен маршала Вандама, он бесподобно, по всем правилам классической драмы, разыграл эту сцену.
С. П. Мельгунов абсолютно прав, говоря, что «Александр останется в истории фигурой поистине примечательной, ибо такого артиста в жизни редко рождает мир, не только среди венценосцев, но и простых смертных».
Историки лишь в XX веке начали обращать должное внимание на актерскую черту в облике Александра I, но и те из них, которые это делали, как М. В. Довнар-Запольский и С. П. Мельгунов, далеки были от мысли видеть в ней разгадку «сфинкса». Между тем, вряд ли будет ошибкой сказать, что все обличья, которые попеременно надевал на себя этот человек в продолжении своего царствования, были театральными масками. Подобно тому, как отдельным людям он стремился говорить то, что им было приятно, так и перед [196] всем миром любил предстать в том одеянии, которое было модно. В эпоху Конвента и Директории он был чуть не якобинец, после уничтожения республики, когда из всего ее наследства уцелела, главным образом, идея конституционализма, он стал ее ревностным поборником. И позднее, после низложения Наполеона, когда мистицизм становился повальным увлечением, он устраивает во время смотра русской армии близ Вертю настоящий триумф баронессе Крюденер — тогдашней богородице мистических салонов Европы.
Читать дальше