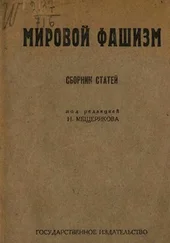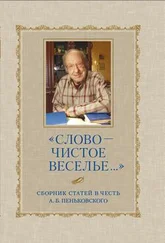Особенно опасным для него оказалось 24 февраля 1814 года, когда после ряда поражений, нанесенных Наполеоном силезской армии Блюхера у Шампобера, у Монмираля, у Шато Тьерри и у Вошана, союзники собрались на совещание у короля прусского и постановили послать письмо маршалу Бертье с предложением мирных переговоров. Даже Англия настаивала на мире. Лорд Кестльри заявил императору: «Я имею приказание парламента пользоваться обстоятельствами, благоприятствующими заключению мира, который в настоящее время тем более необходим, что я вижу нашу коалицию готовою распасться».
Один Александр остался непреклонным. «Я не заключу мира, пока Наполеон будет находиться на престоле».
Даже после 5 марта, когда нелепый Шварценберг без всякой причины устроил чуть не паническое отступление армии и когда на военном совете одобрили и готовы были продолжать это отступление, Александр с обычной твердостью заявил, что он отделит от главной армии все русские войска и, соединившись с Блюхером, пойдет на Париж.
Барклай де Толли имел полное основание утверждать, что «твердости и неуклонности нашего императора, выносливому терпению и неутомимому попечению его мы обязаны этим еще никогда невиданным и неслыханным феноменом, что такая огромная и сложная коалиция до сей поры еще существует и с энергией преследует всё ту же цель».
* * *
Александр буквально за волосы втащил союзников в Париж.
Такая настойчивость не может не привлечь к себе особого внимания. Почему из всех врагов Бонапарта один Александр проявил полную беспощадность и методичную последовательность в его уничтожении?
Сам Наполеон начал присматриваться к царю только после трагического оборота войны 1812 года. До тех пор [187] лучший комплимент, сказанный им по адресу Александра, гласил, что он не так глуп, как о нем иногда думают. Лишь взяв Москву и наткнувшись на железную непримиримость Александра, Наполеон увидел в нем противника непохожего на тех, с которыми приходилось иметь дело дотоле. Когда же выяснилось намерение Александра идти на Париж и обнаружилось, что ни тяготы похода, ни поражения, ни предательство союзников, ни соблазнительные предложения самого Наполеона не способны его остановить и заставить пойти на сговор, Наполеон понял, что это и есть его подлинный смертельный враг. Усталый, искусанный, он неуклонно добирался до его горла.
В исторической литературе давно отмечен фанатизм этой загадочной ненависти и существует немало попыток ее объяснения. Самое неудачное то, которое исходит из экономических и политических интересов России. У России не было реальных поводов для участия в наполеоновских войнах. Европейская драка ее не касалась, а у Наполеона не было причин завоевывать Россию. Веди она себя спокойно, занимайся собственными делами, никто бы ее пальцем не тронул.
Не более убедительна и другая точка зрения, объясняющая войны России с Директорией и бонапартистской Францией реакционными склонностями русских царей. Только война Павла I могла бы подойти под такое толкование и то с трудом. Александр же меньше всех походил на борца с революционной заразой, он еще до вступления на престол поражал иностранцев негодующими речами против «деспотизма» и преклонением перед идеями свободы, закона и справедливости. Конечно, цена его либерализма известна и вряд ли приходится возражать тем историкам, которые считали его маской, но такая маска годится для чего угодно, только не для борьбы с революцией. Гораздо вернее, что у него не было никаких принципов и убеждений.
В разговорах с бароном Витролем, за две недели до взятия Парижа, он высказался в пользу учреждения республики во Франции. Он не любил Бурбонов. Но когда Талейран сказал ему, что возможны лишь две комбинации — Наполеон или Людовик Восемнадцатый, он согласился на Людовика, хотя никогда не скрывал антипатии к старой династии.
Десятого апреля он подарил роялистов трогательным [188] спектаклем, собрав русскую армию на теперешней Place de la Concorde, «где пал кроткий и добрый Людовик Шестнадцатый». Там было совершено торжественное молебствие, при стечении парижской публики и всего знатного, что было в столице.
Республика или Бурбоны — царю было безразлично. Лишь бы не Наполеон. Еще за неделю до капитуляции Парижа он сказал Толю: «Здесь дело идет не о Бурбонах, а о свержении Наполеона».
Это и есть ключ к тайне его вражды и непримиримости. «Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать», — сказал он полковнику Мишо в 1812 году, а сестре своей, Марии Павловне, еще задолго до того внушал: «В Европе нет места для нас обоих. Рано или поздно, один из нас должен уйти».
Читать дальше