Несмотря на все эти мероприятия, план 1932 года выполнить не удалось. Еще в апреле К. К. Сиркен докладывал, что отставание от графика сборки танков происходило главным образом по вине смежников, которые затягивали поставку узлов и агрегатов. Кроме того, последние были крайне низкого качества. По двигателям доля брака доходила до 88 %, а по бронекорпусам — до 41 %. В 1932 году завод № 174 изготовил 1410 танков, предъявил к сдаче 1361, а войска приняли только 950. Подобная картина наблюдалась и в дальнейшем. Тем не менее до второй половины 1941 года заводские цеха покинули 11 218 танков. Т-26 стал самой массовой боевой машиной Красной Армии в предвоенный период.
Выпускавшийся с 1931 года двухбашенный вариант мало чем отличался от британского прототипа. Клепаный корпус танка имел коробчатое сечение. На подбашенной коробке с вертикальным лобовым листом на шариковых опорах размещались две башни цилиндрической формы. В каждой из них предусматривалось место для одного члена экипажа. Механик-водитель располагался в передней части корпуса справа. Пожалуй, единственным отличием первых серийных Т-26 от английских машин было то, что их башни были приспособлены для установки пулеметов ДТ, а на танках Vickers имелись круглые амбразуры вместо прямоугольных. С осени 1931 года на танках так называемой «второй серии» стали устанавливаться башни увеличенной высоты со смотровым окном. В крышке люка механика-водителя прорезали смотровую щель, но еще без стеклоблока триплекс. С 1 марта 1932 года на Т-26 над коробом воздуховывода начали устанавливать специальный кожух, предохранявший от осадков, прежде всего — снега. Спустя месяц этот кожух стал выполняться как единое целое с коробом воздуховывода.
На танке устанавливался карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения Т-26 мощностью 90 л.с., представлявший собой копию английского двигателя Armstrong Siddeley. Механическая трансмиссия состояла из однодискового главного фрикциона сухого трения, карданного вала, пятискоростной коробки передач, бортовых фрикционов, бортовых передач и ленточных тормозов, располагавшихся на корпусах бортовых фрикционов.
В ходовую часть применительно к одному борту входили восемь сдвоенных обрезиненных опорных катков диаметром 300 мм, сблокированных попарно в четыре балансирные тележки, подвешенные на листовых четверть эллиптических рессорах, четыре обрезиненных поддерживающих катка диаметром 254 мм, направляющее колесо с кривошипным натяжным механизмом и ведущее колесо переднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное). Гусеницы шириной 260 мм изготавливались из хромоникелевой или марганцовистой стати.
Средств внешней связи на линейных танках не было. Для связи командира с механиком-водителем первоначально устанавливалась «звуковая труба», впоследствии замененная светосигнальным устройством.

Легкий танк Т-26. Двухбашенная модификация с пушечно-пулеметным вооружением. По периметру корпуса установлена поручневая антенна
В начале 1932 года встал вопрос об усилении вооружения Т-26, так как пулеметные машины не могли «поражать огневые точки неприятеля на большом расстоянии и обороняться от нападения вражеских танков-истребителей». В марте 1932 года на АНИОП прибыл танк Т-26, вместо правой башни которого была установлена малая орудийная башня опытного тяжелого танка Т-35-1, вооруженная 37-мм пушкой ПС-2. В апреле того же года такие башни испытывались еще на двух танках Т-26. Орудие ПС-2 имело для своего времени очень хорошие характеристики, но на вооружение РККА принято не было, так как ГАУ отдавало предпочтение немецкой 37-мм пушке Rheinmetall. На основе последней была создана и принята на вооружение пушка Б-3 (5К). По сравнению с ПС-2, Б-3 имела меньшие откат и размер казенника, что позволяло установить ее в штатную пулеметную башню Т-26 почти без переделок. Однако завод № 8 им. Калинина не смог наладить выпуск пушек Б-3 в необходимых количествах. Кроме того, с лета 1932 года все наличные орудия Б-3 передавались для вооружения танков БТ-2. Поэтому в правой пулеметной башне Т-26 устанавливалась 37-мм пушка ПС-1 (или «Гочкис-ПС»), хорошо освоенная промышленностью. Правда, выпуск этих орудий сворачивался, а их запас на складах оказался не столь велик, как ожидалось. Поэтому пришлось демонтировать пушки с передаваемых в СОАВИАХИМ или списываемых танков Т-18 и даже «Рено». Согласно плану перевооружения пушки должны были устанавливаться на каждый пятый танк. В действительности же таких машин изготовили несколько больше: из 1627 двухбашенных танков, выпущенных в 1931–1933 годах, пушкой ПС-1 было вооружено около 450 машин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
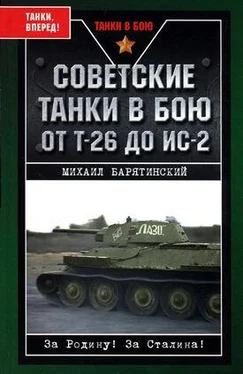

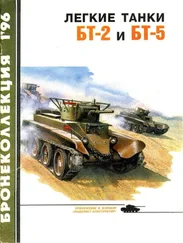
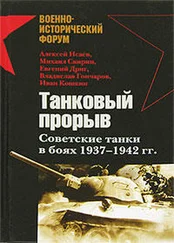
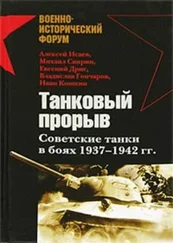
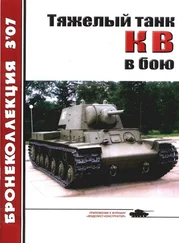
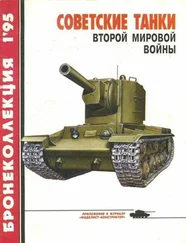

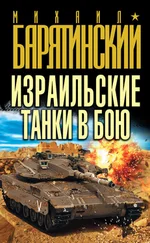
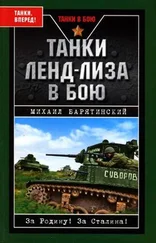
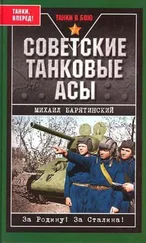
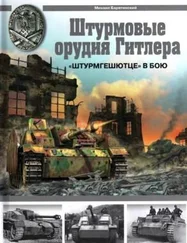
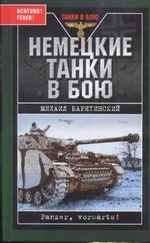
![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/427750/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya-thumb.webp)