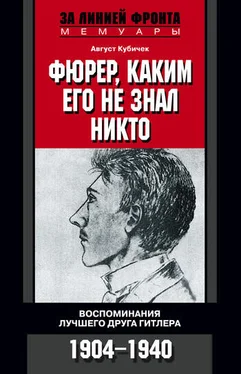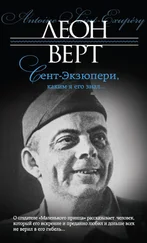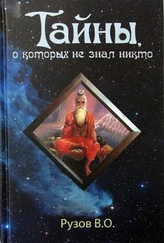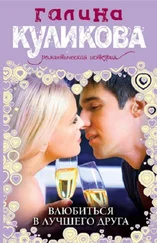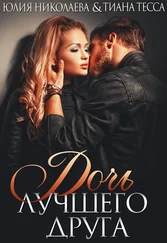Однажды после спектакля я проводил его до дома. Это был дом номер 31 на Гумбольдтштрассе. Когда мы прощались, он назвал мне свое имя: Адольф Гитлер.
С этого времени мы видели друг друга на каждом оперном спектакле, встречались и вне театра; почти каждый вечер мы вместе ходили прогуляться по Ландштрассе.
Если за последнее десятилетие Линц сделался современным индустриальным городом и стал привлекать людей со всех уголков Дунайского бассейна, то тогда он был всего лишь провинциальным городом. В пригородах все еще располагались основательные, похожие на крепости дома фермеров, а на окрестных полях, на которых пасся скот, вырастали многоквартирные дома. В маленьких трактирах сидели люди и пили местное вино; повсюду можно было услышать резкий сельский говор. В городе был транспорт только на конной тяге, и возницы заботились о том, чтобы Линц оставался «сельским». Городские жители, сами в основном из крестьян и часто имевшие близких родственников на селе, были склонны отдаляться от них тем больше, чем ближе было родство. Почти все влиятельные семьи в городе знали друг друга; коммерсанты, государственные служащие и военные задавали тон в обществе. Каждый человек, который хоть что-то собой представлял, совершал вечерние прогулки по главной улице города, которая ведет от железнодорожного вокзала к мосту через Дунай и многозначительно называется Ландштрассе. Так как в Линце не было университета, молодые люди всех сословий стремились подражать привычкам университетских студентов. Общественная жизнь на Ландштрассе почти могла конкурировать с жизнью венской Рингштрассе; так, по крайней мере, полагали жители Линца.
Мне показалось, что терпение не было одной из характерных черт Адольфа; всякий раз, когда я опаздывал к нему на встречу, он тут же шел за мной в мастерскую, и ему было не важно, что я ремонтировал – старый, черный, набитый конским волосом диван или старомодный стул или делал что-нибудь еще. Моя работа была для него не более чем утомительной помехой нашей личной дружбе. Он нетерпеливо вертел в руках небольшую черную трость, которую всегда носил с собой. Меня удивляло, что у него так много свободного времени, и я невинно спросил, работает ли он.
«Разумеется, нет», – ответил он сердито. Этот ответ, который я счел весьма необычным, он коротко прокомментировал. Он считал, что никакая работа «ради хлеба с маслом», как он выразился, ему не нужна.
Такого я еще ни от кого раньше не слышал. Это противоречило всем принципам, которые до того времени руководили моей жизнью. Сначала я видел в этих высказываниях не более чем юношеское бахвальство, хотя своим поведением, серьезной и уверенной манерой говорить Адольф совсем не производил на меня впечатления хвастуна. Во всяком случае, я очень удивился таким его взглядам, но воздержался от дальнейших вопросов, по крайней мере, в тот момент, потому что он, по-видимому, был очень нетерпим к вопросам, которые его не устраивали; это я к этому времени уже понял. Так что разумнее было разговаривать о «Лоэнгрине», опере, которая приводила нас в восторг больше, чем какая-либо другая, нежели обсуждать наши личные дела.
Вероятно, он сын богатых родителей или только что получил наследство и может позволить себе жить, не имея работы «ради хлеба с маслом», – в его устах это выражение звучало презрительно. Я ни в коем случае не считал его лентяем, так как в нем не было и крупицы от поверхностного, легкомысленного бездельника. Когда мы проходили мимо кафе Баумгартнера, он, бывало, бурно реагировал на молодых людей, которые демонстрировали себя, сидя за мраморными столиками за большими оконными стеклами, и тратили свое время на пустую болтовню; он, очевидно, не понимал, как сильно его негодование противоречит собственному образу жизни. Возможно, некоторые из тех, кто сидел «в витрине», уже имели хорошую работу и гарантированный доход.
Может быть, этот Адольф студент? Таково было мое первое впечатление. Черная эбонитовая трость с изящным набалдашником из слоновой кости была неизменным атрибутом студента. Однако казалось странным, что в друзья себе он выбрал простого обойщика, вечно боявшегося, что люди унюхают запах клея, с которым он работал весь день. Если бы Адольф был студентом, он должен был ходить куда-то учиться. Внезапно я завел речь о школе.
«Школа?» Это был первый взрыв раздражительности, свидетелем которого я стал. Он не желал ничего слышать о школе. По его словам, школа его больше не интересовала. Он ненавидел учителей и даже больше – не здоровался с ними; он также ненавидел и своих одноклассников, которых, как он сказал, школа лишь превращает в бездельников. Нет, упоминать школу мне не разрешалось. Я рассказал ему, как слабо сам учился в школе. Он захотел знать почему. Ему не понравилось, что я так плохо успевал в школе, несмотря на все презрение, которое он проявлял по отношению к школьному обучению. Меня смутило это противоречие. Но вот что я понял из нашего разговора: он, вероятно, до недавнего времени учился в школе, возможно, в средней школе или техникуме; и, очевидно, это закончилось плачевно. В противном случае такое полное неприятие школы вряд ли было объяснимо. Он не переставал меня удивлять постоянными противоречиями и загадками и во всем остальном. Иногда он казался мне почти злым. Однажды, когда мы прогуливались по горе Фрайнберг, он вдруг остановился, вытащил из кармана небольшую черную записную книжку – я до сих пор вижу ее перед глазами и мог бы подробно описать – и прочитал мне написанное им стихотворение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу