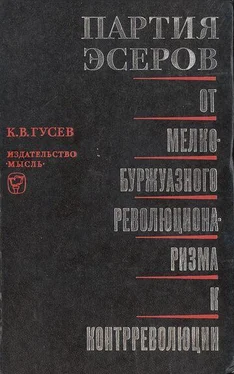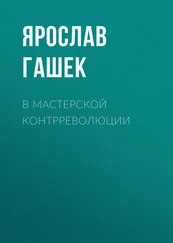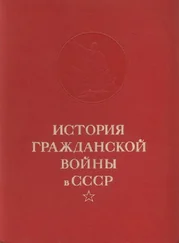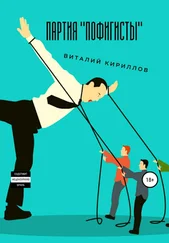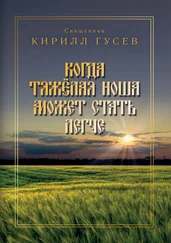Слияние Советов привело к значительному увеличению большевистских фракций в них. Вместе с тем в объединенных Советах сохранились и довольно влиятельные фракции левых эсеров. В составе губернских и уездных Советов между III и IV Всероссийскими съездами они составляли 19%, а в некоторых — до 30—45%. Кроме того, в отдельных Советах еще имелись более или менее значительные по численности фракции правых эсеров и меньшевиков. Именно в таких Советах единство действий большевиков и левых эсеров приобретало особо важное значение.
В Царскосельском уезде Петроградской губернии большевики на уездном съезде Советов составляли 40, а левые эсеры — 28% делегатов. Таким образом, исход голосования зависел от того, с кем выступят левые эсеры. При выборах Совета они вместе с большевиками проголосовали против предоставления в нем мест правым эсерам и меньшевикам, которые лишь тормозят работу Исполкома. Правые эсеры и меньшевики вынуждены были уйти со съезда, а в Исполком вошли 9 большевиков и 6 левых эсеров 543 543 ГАОР ЛО, ф. 1000, оп. 79, ед. хр. 42, л. 35—36.
.
Ожесточенная борьба с правыми эсерами развернулась на съезде Советов крестьянских депутатов и Советов рабочих и солдатских депутатов Лужского уезда. Все резолюции вносились здесь от имени «правого сектора» — правых эсеров, меньшевиков и беспартийных и «левого сектора» — большевиков и левых эсеров. Большинством голосов была принята совместная резолюция большевиков и левых эсеров о поддержке Советской власти и об объединении Советов. Перед выборами Исполкома на совещании «левого сектора» было решено, что «ввиду заявления правых о непризнании власти Советов они не могут быть делегированы в Совет». Исполком был избран из большевиков и левых эсеров 544 544 ГАОР ЛО, ф. 1000, оп. 79, ед. хр. 42, л. 9—11; ф. 1032, оп. 14, ед. хр. 2, л. 2—12.
.
Аналогичным образом развивались события на съезде Советов Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, в Великолукском уезде Псковской губернии, в Симбирской губернии, на губернском съезде Советов Череповецкой губернии.
Приведенные примеры отнюдь не означают, что все левоэсеровские организации вели себя лояльно по отношению к Советскому правительству или что эта партия встала на платформу научного социализма. Левые эсеры по-прежнему придерживались своих мелкобуржуазных взглядов на революцию, и прежде всего отрицали необходимость диктатуры пролетариата. Еще на II съезде Советов, как писала газета «Знамя труда», они ставили своей целью доказать большевикам «утопичность и авантюристичность диктатуры пролетариата в отсталой в промышленном отношении стране, к тому же стране земледельческой». Как сторонники «чистой демократии», левые эсеры считали, что диктатура «приведет к системе террора… к гражданской войне» и обречена на провал 545 545 См. «Знамя труда», 31 октября, 7 ноября 1917 г.
.
Позже часть левоэсеровских деятелей признала диктатуру более целесообразной формой власти в переходный период, чем «народовластие», однако не «диктатуру пролетариата», а «диктатуру трудящихся классов», которая должна осуществляться всеми, кто «не эксплуатирует чужого наемного труда». В противном случае, писали эсеровские идеологи, «огромнейшие массы трудового человечества, которые не потеряли еще своих орудий труда и еще не жили в условиях частного капитала, были бы исключены из активного социального творчества» 546 546 ЦПА ИМЛ, ф. 274, оп. 1, ед. хр. 31, л. 5—6.
.
Оставаясь на левонароднических позициях, левые эсеры и теперь продолжали считать крестьянство главной движущей силой мирового революционного процесса. Доказывая «невозможность повсеместной чисто пролетарской гегемонии» и ту «великую историческую роль» в социалистической революции, которая «выпадает на долю трудового крестьянства», они заявляли, что международная социалистическая революция не может во всех странах победить как пролетарская и если «пролетарская концепция… правильна для передовых капиталистических стран, то она недопустима для полукапиталистических аграрных стран (Россия, Балканы, народы Востока)».
Левые эсеры бездоказательно утверждали, что марксисты якобы не понимают значения трудового крестьянства как «самостоятельного фактора мировой революции». По их мнению, отсталые страны с преобладанием крестьянского населения стоят ближе к социализму, а потому именно во главе с ними «при условии поражения империалистического капитала в мировой войне и при поддержке русских и западноевропейских рабочих может быть проведена мировая социалистическая революция» 547 547 См. «Великий Октябрь в работах советских и зарубежных историков». М., 1971, стр. 107—108.
.
Читать дальше