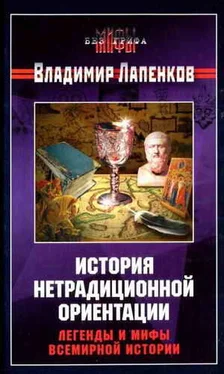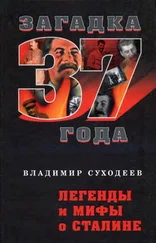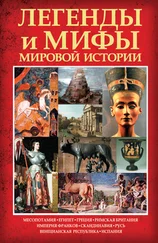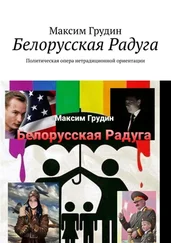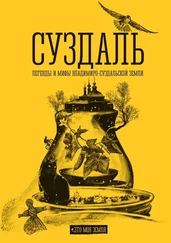Из Иерусалима Даниил отправился дальше по святым местам. «В горах, — пишет он, — нападают сарацины, нет возможности пройти малым группам. Мне же пришлось путешествовать с доброй дружиной и удалось без ущерба пройти через это страшное место». «Пошел иерусалимский князь Балдуин I со своими крестоносцами на войну к Дамаску», Балдуин «с радостью великой повелел мне пойти с собой и нарядил меня к своей личной охране».
В те годы граф Балдуин, младший брат Готфрида Бульонского, стал первым королем Иерусалимского королевства под именем Балдуина I. Возможное отражение в фольклоре, который использовал Пушкин: Балда (Балдуин) на поповской (папской) службе победил чертей (сарацин) и забрал их сокровища (сокровища Храма Соломона)?..
И странные мысли начинают вдруг возникать. Ратуют сегодня за некую «х'арийскую» родину убогие кощунники, строящие из себя сверхчеловеков, и учат жить на свой спесиво-патриотический нервический лад. Не вредно иногда перечитать такие произведения, как «Хожение игумена Даниила». Вот вам реальный (а на сегодня, можно сказать, — идеальный) тип русского человека. Никакой ксенофобии, чувства зависти и неполноценности, ни преклонения перед Западом, ни его проклинания. Абсолютное чувство собственного достоинства при искреннем же смирении и самоуничижении перед людьми и перед Богом. Духовная красота и несомненная сила (игумен наш переплывал Иордан, по шесть часов взбирался на отвесную гору). Интеллектуальное любопытство и эстетический интерес к окружающему (всюду отмечал меры и расстояния — от межгородских дорог до глубины Иордана и величины гроба Господня).
И подлинные личности всегда заметят друг друга: Балдуин, «увидев меня… подозвал к себе с любовью и спросил: "Что хочешь, игумен русский?" Он хорошо знал меня и очень любил, был он человеком добродетельным, очень скромным и ничуть не гордился».
То был пик русской культуры, в эпоху от правления Ярослава Мудрого до Даниила Галицкого. Немного, кажется. Ну, а сколько длилась елизаветинская эпоха? Скажете — феодальная раздробленность? Но «раздробленность» не помешала итальянскому Ренессансу. Несмотря на усобицы, страна строилась, осваивала свои внутренние территории, создавала новую литературу и «нового человека»: при отсутствии бурсы и обязаловки — повально грамотный народ. И не было крепостного права, коллективизации, инквизиции, самодержавия, опричнины (полицейского произвола) и массовых репрессий, не было бегства в города и обезлюживания деревень.
Уже потом, при московско-ордынском правлении, сама нация изменилась и все покатилось совсем в другую сторону.
Если внимательно вчитаться в исторические источники, то можно убедиться, что никаких серьезных и глубоких, никаких неотвратимых причин доя будущего возвышения Москвы не было. Она, в буквальном смысле, возникла из ничего. Другое дело, что в принципе все возникает «из ничего» — и жизнь, и вселенная, и популярность, и ссоры. Кто в начале 1917 г. мог бы поверить в грядущую диктатуру Ленина, а тем более — некоего Джугашвили? Указали бы тогдашним мудрецам, типа Плеханова, Кропоткина, Милюкова, на скромного рябого грузина как на будущего Отца народов… То-то смеху бы было!.. А подобных случаев можно привести еще много. Но в этом и великая привлекательность истории как формы искусства — она полностью непредсказуема ни в будущее, ни даже в прошлое.
А что мы знаем о прошлом? Вряд ли до нас дошла даже сотая часть произведений средневековой литературы — и устной, и письменной. «Слово о полку…» не могло появиться в безвоздушном пространстве. Можно предположить, что пропали целые жанры. Не исключено, что дошедшие до нашего времени былины — это определенная форма литературной деградации — «низкий» жанр массовой литературы, пересказы и осколки затонувшей эпической «атлантиды». Возможно, что и у нас некогда были артуровские («владимировские») циклы и стихотворные рыцарские романы, наподобие «Парсифаля». И, кстати, когда говорят об элементах так называемого «двоеверия» в «Слове», не учитывают того, что для автора языческий пласт мог быть чистой «эстетикой», необходимой частью куртуазного стиля и книжной культуры.
Что ж, оперируем тем, что имеем… Главным «манифестом» крестоносного и паломнического («каличь-его») движения на Руси можно считать мифологию из Голубиной книги с ее сюжетом «хождения» калик к святым местам. «Голубиная» означает — Глубинная, т. е. Потаенная, апокриф; апокрифы повлияли на создание «духовных стихов», которые также были связаны с каликами. Смысл Книги разъясняется Давидом князю Владимиру, что привязывает ее уже к былинному циклу.
Читать дальше