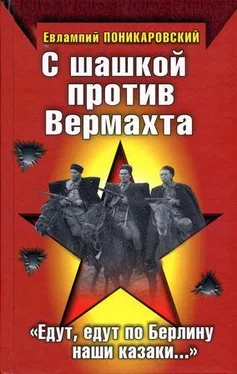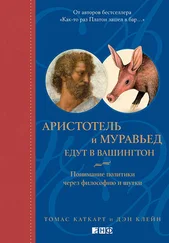У нас в батарее новые потери. Убиты командир расчета из ромадинского взвода Алексей Власов и наводчик Федор Топольсков. Убитых заменяют коноводы. Один из них — Станислав Музыченко.
Об этом молодом воине, Станиславе Музыченко, стоит сказать особо. Появился он в нашем полку в Писаревке, которую мы заняли вчерашним утром. И к первому попал он к Антону Яковлевичу Ковальчуку, потому что искал «самого главного комиссара». Доложил, что к наступающей Красной Армии он пробрался из города Смелы, занятого врагом. Что там, в оккупированной Смеле, он со своими школьными друзьями «маленько» партизанил, точнее, помогал партизанам. Что он слезно умоляет не гнать его, а взять в Красную Армию и назначить в разведчики, потому как он, мол, знает все про фашистов: где они стоят, сколько их.
Антон Яковлевич выслушал чернокудрого и черноглазого, мало похожего на украинца парня и спросил, чем он может доказать, что он именно тот, за кого себя выдает. Ни слова не говоря, парень сел на пол, с левой ноги снял башмак, отодрал стельку, порылся там и бережно подал в руки Антона Яковлевича комсомольский билет.
В разведку Антон Яковлевич не послал Станислава Музыченко, слишком тот был худым, слабым и заморенным, а прислал в нашу батарею. Я определил его в коноводы.
Станислав сильно огорчился. Но в первом же бою явился на огневую позицию и стал подносчиком мин.
В том первом бою, на огневой позиции, Станислав узнал, что рядом с ним воюет его земляк — сержант Андрон Руденко. Едва закончился бой, как Музыченко явился ко мне с просьбой перевести его в огневой расчет Руденко. Я не стал возражать, зная, что юный казачок попадет в добрые руки и очень скоро станет опытным воином. Так оно и произошло.
Сержант Руденко в батарею пришел из госпиталя. За его плечами была большая солдатская жизнь. В тридцать девятом он был призван в армию. До Великой Отечественной войны, как он рассказывал, успел отвоевать на финском фронте. В сорок первом из Белоруссии — через Гомель, Могилев, Оршу, Смоленск, Духовщину — отступал до Москвы. Затем, после ранения и госпиталя, были Сталинград и Курская дуга. Снова ранение. Теперь он был у нас и шел к своему дому — селу Буда Орловецкая. В Писаревке от своих дальних родственников узнал о великой беде: отец и два младших брата немцами расстреляны за связь с партизанами. Мать, избитая немецкими прикладами, умерла. Хата их сожжена. Почерневший и постаревший от горя, Руденко рвался в бой. Он даже приходил ко мне с просьбой перевести его в сабельный эскадрон: «Тот ближе к врагу, а мне надо рассчитаться и за свою кровь, и за родных…»
Я уже рассказывал вам, дорогой читатель, что у старшины батареи Рыбалкина было много хлопот с великаном нашим, Яковом Синебоком. Но не менее хлопот ему доставили и наши «недомерки» — Станислав Музыченко и Василий Шабельников. Самая малая, первого роста, солдатская одежда им оказалась великоватой, гимнастерки и штаны висели на них как на вешалках. Подол шинели у них волочился по земле, а сапоги… кажется, на двоих хватило бы одной пары. «Не гвардия, а детский сад», — ворчал старшина.
Утром 31 января мы заняли городок Лебедин, а к исходу дня прорвались в Шполу и Звенигородку. В Звенигородке полк встретился с передовым отрядом 1-го Украинского фронта. Радость для нас была необыкновенная. Мы замкнули Корсунь-Шевченковское кольцо окружения, создав новый котел врагу.
Для меня Звенигородка чуть не стала последней. По длинной улице, замощенной булыжником, мы мчались на полном галопе. Впереди моей батареи скакала батарея «сорокапяток». Последняя пушка на выбоине перед мостиком высоко подпрыгнула, соскочила с крюка и, развернувшись поперек, загородила дорогу. Мостик небольшой, всего каких-то два-три метра, перекинутый через глубокую канаву. Задерживаться не хотелось, и я пустил своего Казака через пушку. Но прыжок коня был неудачным — не хватило разбега. Казак при прыжке задел передними ногами за щит орудия и, сделав через голову сальто-мортале, остался лежать на дороге. Ну, а я, всадник, перевернувшись в воздухе не один раз, упал далеко впереди своего Казака. Удар при падении был сильным. Из ножен со звоном вылетела шашка. Лопнула шпора и на одной ноге разорвался сапог. Лежа на земле, я пошевелил ногами, руками. Кости целые. Ну, а ссадины и ушибы — что их считать? Я быстро вскочил. Мысленно поблагодарил судьбу и ПНШ Ковтуненко. Он был моим первым учителем верховой кавалерийской езды. Он научил меня приемам падения с лошади. Это ведь тоже наука. Казак все еще лежал, тяжело вздыхая. Я не скомандовал, не крикнул, не ударил плетью, а тихо попросил коня:
Читать дальше