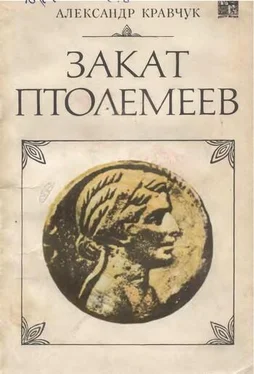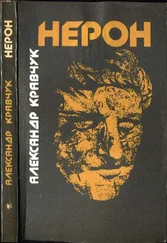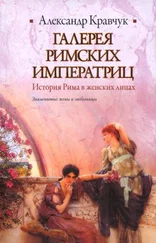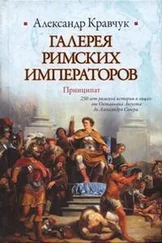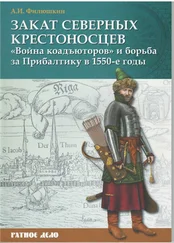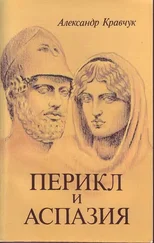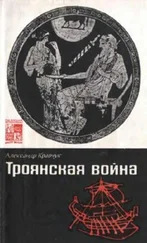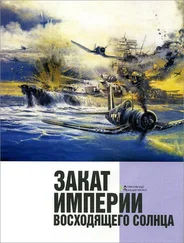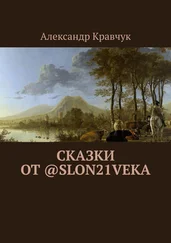Признав детей, Антоний должен был сделать их мать своей законной супругой. Так он и поступил. Правда, мы не знаем, случилось ли это тогда же, осенью 37 года, в Сирии или несколько позднее. Брак с Клеопатрой вовсе не означал, что Антоний был намерен разводиться с Октавией. С точки зрения римлян, его женой считалась только Октавия, потому что по закону римский гражданин мог вступить в брак с чужестранкой лишь в том случае, если её страна была связана с Римом так называемым jus connubii, соглашением, дающим право гражданам двух государств заключать важные династические браки. С Египтом у Рима такого договора не было. Поэтому Октавиан и его сестра попросту игнорировали женитьбу Антония, а церемонию бракосочетания рассматривали как очередную выходку триумвира, наподобие тех, о которых мы говорили.
Что же касается подданных Клеопатры, то они, как и все восточные народы, вообще не придавали значения юридической стороне дела. Боги и цари выше законов, и, если им угодно, они совершают обряды и становятся супругами. Из этого, однако, не следует, что Антоний сделался царём и повелителем Египта. Он был в этой стране — если воспользоваться современной терминологией — на положении «царствующего супруга».
Дары
Осенью 37 года Клеопатра получила от отца своих детей необычайно щедрые подарки. Возможно, это были подношения жениха — если бракосочетание состоялось именно тогда. Царица получила сирийский город Халкис, правитель которого поплатился жизнью за сочувствие парфянам; несколько крупных частных поместий в Киликии и на Крите; ей были отданы в управление некоторые города на побережье Сирии и Финикии. Кроме того, Антоний подтвердил принадлежность Кипра Египту, провозглашённую одиннадцать лет назад Цезарем. В целом эти пожалования были огромны. Но формально Антоний не посягал на римские владения на Востоке. Он передал Клеопатре те территории, которые по каким-либо причинам остались без владельцев после недавнего нашествия парфян. На основании соглашения с Октавианом Антоний имел право решать проблемы Востока так, как он найдёт полезным для республики. Впрочем, не одна Клеопатра поживилась тогда за счёт милостивых щедрот триумвира, который раздавал целые царства — главным образом в пограничных областях. Их новые правители, формально считаясь римскими союзниками, фактически были вассалами Рима, а их владения — его форпостами. Таким образом, Антоний защитил границы восточных провинций от внешних нападений кордоном из мелких зависимых государств. Это была разумная и целесообразная политика.
Но все эти подарки и пожалования не удовлетворили Клеопатру. Она не скрывала, что ждёт большего. Особенно ей хотелось получить Иудею и Аравию, называвшуюся тогда Набатейской, то есть территорию Палестины с прилегавшими к ней с востока землями. Свои притязания она оправдывала тем, что при первых Птолемеях Палестина находилась под властью Египта, лишь потом ею завладели Селевкиды, которым пришлось уйти из страны под натиском восставших иудеев. Однако на этот раз Антоний не был так великодушен. И не без причин. В Иудее в это время царствовал Ирод, три года назад возведённый на престол Антонием и Октавианом. Ирод изгнал из Палестины парфян и разгромил враждебную ему политическую группировку внутри страны. Отобрать у него Иудею значило бы грубо нарушить существующее соглашение и подорвать авторитет нового режима на Востоке. К тому же Клеопатра всё равно не справилась бы с иудеями. Все хорошо знали, что этот народ фанатически дорожит своей свободой и способен за неё постоять.
В конце концов Клеопатра получила небольшую часть Иудеи, правда наиболее плодородную: город Иерихон с окрестностями, где находились знаменитые плантации благовонных кустарников. А из территории набатеев Антоний отдал ей полосу земли к востоку от Мёртвого моря. Всё это он сделал, разумеется, не спрашивая разрешения ни у Ирода, ни у арабов. Впрочем, те были рады, что теряют сравнительно немного. Неясно одно — получила всё это Клеопатра в 37 году или двумя годами позже.
Весной 36 года большая армия Антония двинулась на восток против парфян. Клеопатра сопровождала полководца до Евфрата.
Клеопатра и Ирод
У современных исследователей нет единого мнения о том, когда именно Клеопатра посетила Иерусалим: летом ли 36 года, по пути с Евфрата, или через два года, в 34 году. Сохранился рассказ об этой встрече иудейского писателя Иосифа Флавия, жившего в I веке н. э. и писавшего по-гречески. В своих сочинениях Флавий использовал труды историков-современников описываемых событий. Возможно, в его распоряжении были даже дневники царя Ирода, принимавшего Клеопатру в Иерусалиме.
Читать дальше