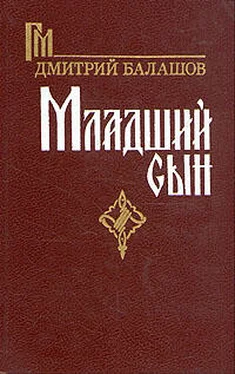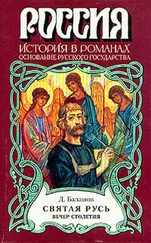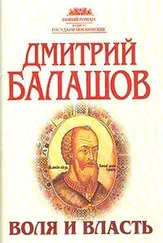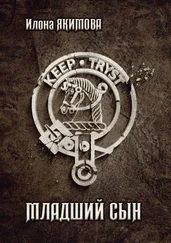Поп поглядел, посопел. Вымолвил:
– Кого иного… А безо князя людие, аки овцы без пастыря. Князь тверской в свой черед великим князем станет. По лествичному счету ему после Данилы Московского достоит принять бразды! А коли его нынче татары возьмут? Возможно, что уже и князь Данилу пояли в полон али напрасныя смерти предали! И что мы без главы? Разидемся, аки жиды, гонимы гневом Божьим по лицу земли! Каждый, егда мощно, должен приложити труд свой… Сказано бо есть: «В руки твои, Господи, предам дух свой, и не оборют мя врази мои!»
– Не ровен час, – приостановясь, сказал поп, – все мы под Богом… Косому отдашь за полть в осеновья, а с Сидорки Лаптя долга строго не спрашивай, убогий он. Потерпи.
И тут только, поняв наконец, попадья взвыла в голос, разом оробев и уже неложно цепляясь за своего батюшку, запричитала бабье, скорбное. Потом, уже когда он выводил запрягать коня, не переставая причитать, засуетилась, увязывая вчерашние пироги, ругаясь и плача, выбежала во двор, где уже готовая лошадь переминалась в санках, а поп носил сено из сарая, сунула узел в сани, в сено.
Поп отворил ворота, строго благословил свою «ругательницу», прижал на миг выскочившую в одной рубахе, спросонок, и прильнувшую к грубой шерсти плохо выделанного дорожного вотола дочь, благословил и ее и, запахнув ворота, дернул вожжи. Лошадка резво выбежала, мягко накренив сани, хорошей рысью унося легкие поповские санки в серо-синюю тьму. Крупные хлопья, рванувшись с ветром в отворенные ворота, разом залепили лица двух женщин, остававшихся на дороге, пока не затих вдали негромкий топот и поскрипыванье саней.
Молодому тверскому князю весело было смотреть на островерхие, в снежном серебре, елки, на оснеженные, в инее, ветви берез. Двое-трое встречных, в испуге шарахнувшихся прочь, завидя издали княжой поезд, не насторожили и не объяснили ему ничего. В Коломну решили не заезжать, спрямляя путь. (И – к счастью: как потом узналось, под Коломной их уже ждала татарская засада.) И ежели бы на дороге в Москву перед ним вдруг не показалась смешная, заиндевелая фигурка сельского попика на косматой лошаденке, в легких самодельных санках, весь обоз и дружина князя Михайлы угодили бы под Москвой прямо в лапы татар. Тем паче что Дюдень, зная о скором возвращении Михаила, разослал по всем дорогам заставы с приказом во что бы то ни стало перенять и изловить тверского князя. (До татар уже дошли вести об укреплении Твери.) Передовой, завидя нелепого встречного, дурашливо стегнул было поповскую конягу, но поп, натягивая вожжи, закричал сердито и вывернул вновь на дорогу, перегораживая путь, и скоро толпа комонных сгрудилась вокруг саней, еще не понимая, что и почему.
– Татары? Какие татары?!
– Татары зорят, ордынцы, Москву забрали! Ко князю веди!
Пока полузамерзший поп говорил с князем, а его загнанная лошадка, пугливо поводя ушами, принюхивалась к рослым княжеским коням, дружина и ездовые шушукались, переминались, сбиваясь в кучи, и вместо прежней озорной веселой удали по лицам, по сердцам и даже по насторожившимся коням потек страх. Татары были вокруг, и уже вчера могли вполне свободно захватить их всех.
Но вот там, у главных саней, что-то решилось. Батюшка пересел ко князю, и поезд тронулся: сперва ездовые, затем сани и возы с добром, сворачивая в лес, на едва заметную зимнюю санную тропу. Проглянувшее было солнце опять замглилось, и с неба вновь стал валиться теперь уже спасительный снег. Скоро весь поезд скрылся в чаще. И – вовремя. Двух часов не прошло, как по торной, оставленной тверичами дороге прошел рысью татарский разъезд, зорко высматривая по сторонам.
Попик знал дорогу отменно и вывел весь отряд в долину Пахры, а там ночью прошли мимо Рузы, избежав татарских сторожей, и опять дремучими лесными тропами на верх Ламы, мимо Волока, занятого татарами, на Шошу, Старое Селище, Вески Тверские, Езвино… Уже в виду первых тверских сел, когда загонные рати татарские остались позади, поп остановил обоз и, отказавшись от настойчивых приглашений Михаила и бояр переждать в Твери лихое время (от дорожных уже вызнали, что Тверь не взята), начал прощаться.
Михайло, сдружившийся за дорогу с попиком, как оказалось, книгочеем, выйдя из саней и не зная, что еще сделать этому, спасшему их человеку, попросил благословения и вручил-таки спасителю после уговоров свой перстень и княжескую икону в серебряном окладе. Поп хоть и говорил, что «недостоит платы прияти служителю божию», но от иконы и перстня отказаться не смог. Благословив князя, он молвил чуть дрогнувшим голосом:
Читать дальше