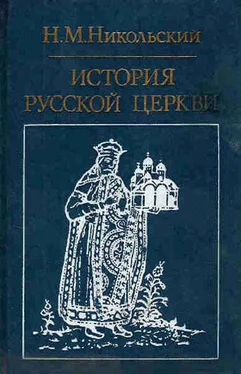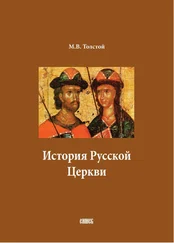В частности, практически не раскрыта деятельность церкви в период монголо-татарского нашествия — деятельность откровенно антипатриотическая. Между тем исторических данных, необходимых для такого раскрытия, ко времени написания «Истории русской церкви» было более чем достаточно, и остается непонятным, почему Н. М. Никольский не включил их в свою книгу.
Явно недостаточно показаны карательные акции церкви, направленные на подавление народных выступлений, которыми так богата история дореволюционной России, например ее содействие кровавой расправе царского самодержавия над участниками крестьянских восстаний, возглавлявшихся Иваном Болотниковым, Степаном Разиным, Емельянов Пугачевым, Кондратием Булавиным и другими народными вожаками. А без этого нельзя составить правильное представление о русском православии как глубоко антинародной силе — представление, которое крайне необходимо для нейтрализации попыток современных богословов и приходского духовенства навязать нашему обществу заведомо ложный тезис о русской православной церкви как «исконной заступнице народной».
Не получило должного освещения в книге Н. М. Никольского /14/ и непосредственное участие церкви в подавлении русским самодержавием восстания декабристов, в преследовании политической реакцией революционных демократов, что снижает аргументированность совершенно правильного вывода автора о реакционности русского православия как феодальной идеологии и организации, противодействующей социальному прогрессу.
Можно было бы полнее и убедительнее, чем это сделано в «Истории русской церкви» Н. М Никольского, показать систематические преследования церковным аппаратом передовых ученых дореволюционной России и прогрессивных деятелей культуры, разоблачить происки духовной цензуры, стремившейся затормозить развитие научных познаний о мире и человеке, пытавшейся вытравить любое проявление свободомыслия. Следовало больше сказать о насаждении русской православной церковью обскурантизма не только в церковных школах, но и в светских учебных заведениях.
По существу, полностью обойден вниманием внутренний идейный кризис русского православия, который возник еще во второй половине XIX в., но наибольшей остроты достиг в начале XX в. под влиянием надвигавшихся революционных событий, — кризис, проявившийся в разрушительной для церкви конфронтации ортодоксально-консервативной и либеральнообновленческой тенденций развития богословской мысли, в противоборстве традиционалистов и модернистов.
Одновременно следует отметить, что в «Истории русской церкви» наряду с вышеупомянутыми упущениями имеются и определенные излишества: в нее включен материал, без которого вполне можно было бы обойтись.
К примеру, не совсем вписывается в тему книги первая глава «Дохристианские верования и культы», в которой рассматривается проблема происхождения и развития ранних форм религии, предшествовавших христианству. Она была бы вполне уместной в книге «Религия и церковь в истории России», где изложению истории русского православия должно с необходимостью предшествовать описание более ранних религиозных форм и образований. А книга по истории русской церкви в такой главе не нуждается. К тому же надо добавить, что материал упомянутой главы был издан в 1929 г. отдельной книгой, озаглавленной «Дохристианские верования и культы днепровских славян».
Не просто нецелесообразно, а методологически неверно включать в историю русской церкви (вернее, в историю русской православной церкви) исторический очерк старообрядчества и сектантства, как это имеет место в рассматриваемой книге Н. М. Никольского.
Конечно, возникновение старообрядчества и его взаимоотношения с официальной церковью, основные перипетии преследования старообрядцев общественными силами православия и самодержавия, образование так называемого единоверчества /15/ и т. п. — составная часть истории русской православной церкви и поэтому должна рассматриваться в очерке такой истории. Но старообрядчество как социально-религиозный феномен, положивший начало вполне самостоятельной христианской деноминации, которая полностью отпочковалась от православия, пошла собственным путем и сохраняет свою независимость от православия более трех веков, включать в историю русской православной церкви, как это сделал Н. М. Никольский, по меньшей мере нелогично.
Еще меньше оснований для включения в историю русской церкви сектантства, которое хотя и возникло в России на почве православия (имеются в виду не протестантские деноминации типа баптизма, меннонитства, пятидесятничества, адвентизма и т. п., а такие, как хлысты, духоборы, молокане и пр.), но давно и окончательно отошло от него, обретя самостоятельность.
Читать дальше