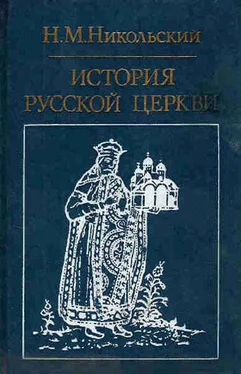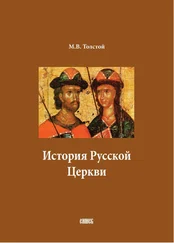Разложение синодской церкви
Кризис церкви сказывался не только в описанном притуплении и бессилии всех тех средств и орудий, какими она располагала, но также и в разложении рядов ее верующей массы. В городе, как мы только что видели, рабочие уходили быстро и безвозвратно из церковных рядов. Интеллигенция 90-х и 900-х годов славилась и рисовалась своим вольнодумством и атеизмом. Даже в темной и забитой деревне, которая, сторонясь от благонамеренных поучений, все же не могла еще жить без культа и его магических манипуляций, политика союза гниющего государства с гниющей церковью приводила к совершенно неожиданным и зловещим для церкви провалам. В 80-х годах в разных местах, особенно там, где по соседству существовали старообрядческие приходы, крестьяне по образцу последних стали пробовать, нельзя ли подчинить сельский клир надзору со стороны сельских и волостных сходов. Эти последние стали выносить приговоры об удалении не нравившихся им священников и о поставлении священниками мирских избранников, сопровождая свои приговоры мотивированными жалобами. В жалобах чаще всего фигурировали пьянство, драка и вымогательство клириков, из которых некоторые сластолюбивые священники доходили иногда до таких требований, о каких не решались вслух потом и говорить. Синод, к которому обратились за директивами местные архиереи, всполошился и через обер-прокурора выхлопотал в министерстве внутренних дел циркуляр губернаторам, в котором предлагалось считать все подобные приговоры ничтожными, а сельских должностных лиц, допускающих такие приговоры, привлекать к ответственности. Приговоры прекратились, но стали сокращаться и даже совсем прекращаться в таких приходах отчисления из мирских средств на содержание клира. Взбешенные клирики прибегли тогда к содействию полиции, воспользовавшись статьей 190 положения о крестьянах, согласно которой полиция могла понуждать сельские общества к исполнению приговоров. Это переполнило чашу терпения, и во всех крестьянских обществах, «обузданных» совместными усилиями священника и станового, начался массовый переход в раскол. Синод опять забеспокоился и в 1882 г. предписал священникам к полиции в таких случаях не обращаться, но действовать «мерами увещания и нравственного воздействия», а при /426/ их неуспешности закрывать те приходы, где прихожане оказались неаккуратными плательщиками. Но и эти меры имели те же следствия — тяга в раскол не прекращалась, но все более усиливалась. Ей благоприятствовали также некоторые другие моменты, с крестьянской точки зрения выгодно отличавшие старообрядческие порядки от православных, а именно существовавшие в старообрядчестве право прихожан избирать и сменять попов, а также порядок и благочиние, с каким совершались церковные службы. В этом отношении синодская церковь, особенно сельская, безнадежно отстала от старообрядческой; нечленораздельное бормотание псаломщиков, «гудение», «рыкание» и просто «рев» диаконов и гнусавый фальцет священников, а в придачу непонятный церковнославянский язык производили на прихожан отталкивающее впечатление, усугублявшееся еще драками, которые пьяные попы нередко заводили с причетниками даже в алтаре. Поэтому службы в синодской церкви крестьянину казались мало действительными, и он склонен был думать, что более истовое и внятное «богомолие» старообрядцев скорее дойдет до бога и лучше поможет ему в его горькой доле.
Но еще опаснее старообрядчества оказалось для синодской церкви сектантство, которое, как мы видели, в 90-х и 900-х годах одерживало в некоторых местностях России огромные успехи и отрывало от церкви миллионы ее последователей. Официальная статистика отказывалась определять точное число сектантов, так как полицейские и приходские сведения заведомо были во много раз ниже действительности. Из всех видов сектантства так называемая штунда во всех ее проявлениях казалась правительству и государственной церкви самым страшным врагом. Социальную опасность штундистских организаций правительство видело в том, что некоторые из них объединяли маломощное и середняцкое крестьянство, уходившее безвозвратно при вступлении в секты из-под влияния священника и гипноза царизма. Не менее опасным представлялся правительству и баптизм, поскольку он отрывал от синодской церкви и от слепого подчинения государству часть зажиточного кулацкого крестьянства, на которое правительство стремилось опираться в селе. Эта оценка штундизма и баптизма выразилась в том, что обе эти секты были по настоянию оберпрокурора Победоносцева официально включены в разряд «особо вредных сект». С 1899 г., когда такая /427/ квалификация штундизма и баптизма была официально установлена, начались жестокие репрессии, производившиеся преимущественно в административном порядке. Штундистов и баптистов массами арестовывали и ссылали в северные губернии, Сибирь и Закавказье, но эти меры, как мы видели, приводили только к еще большему укреплению и распространению этих видов сектантства.
Читать дальше