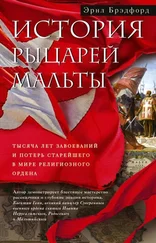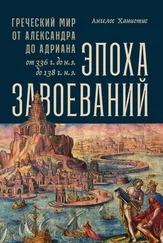II
Теперь-то и началось то глобальное движение, которое затронуло всю Европу и главенствующая роль в котором принадлежала норманнам. Подтолкнуло к этому в первую очередь само разнообразие причин: некоторые из них были политическими, некоторые — психологическими, а некоторые, наиболее строгие, — церковными, но все они были взаимосвязанными, и в каждой из них норманны имели свой непосредственный интерес. Главным здесь было то, что в результате войн предшествующего периода усилилось давление на границы христианского мира, и с наступлением XI века здесь уже не чувствовали себя в безопасности. В первой четверти XI века, например, ослабло и изменило свой характер влияние Скандинавии на западе, а с 1000 года христианским государством можно считать Венгрию. Принятие христианства на севере и обращение Венгрии в христианство в самом деле имели огромное политическое значение, и символами перемен в XI веке стало в Норвегии появление канонизированного короля Олафа (в лоно Церкви его принял архиепископ Руанский), а в Венгрии — правление св. Стефана [220]. Образцом новой политики стал визит Кнута Великого в 1027 году к храмам Рима, визит прошел в условиях успешного противостояния на юге со стороны македонских императоров исламу, во власти которого все еще находились Сицилия и часть Испании. То есть теперь Западная Европа освободилась от постоянной угрозы нападения и любые возможные в будущем религиозные войны носили бы скорее наступательный характер, нежели оборонительный. Велись бы эти войны скорее в надежде расширить границы христианского мира, нежели с целью отстоять существующие.
Этот процесс ускорил растущее осознание единства и единой воинственной цели западного христианского мира. Благодаря распространению церковных реформ бургундским монастырем Клюни и его ответвлениями, к началу XI века западная церковь уже ощущала прилив новых сил, в тот же период начала появляться и феодальная аристократия, чье привилегированное место в обществе зависело от исполнения определенных военных обязанностей. Это — два различных процесса, но иногда они вступали во взаимодействие. Их взаимное влияние заметно уже на ранних этапах развития Нормандии, и подобный факт наблюдался не только в герцогстве Нормандия. Кое-где у клюнийских домов появились новые щедрые магнаты, и Клюни скоро обратился к ним за вооруженной поддержкой. Подобные настроения заметны и в появившейся страсти к паломничеству, которое стало знаком этой эпохи [221]. Показательно, возможно, и то, что Клюни не только выступал в защиту паломничества в святые земли, но и контролировал многие маршруты паломников. Во всяком случае, поток проходящих через Европу паломников постоянно рос, и шли они в основном в трех направлениях: к базилике в Риме, к гробнице св. Иакова в Компостелла и к святым местам в Палестине.
Паломничество — это акт Веры, иногда к нему относились как к последнему путешествию. Вера в то, что паломничество будет духовно благотворным и, возможно, даже поможет искупить грехи, в XI веке вдохновила не одного пилигрима. Но в некотором смысле паломничества были также и совместной работой ради простого спасения христиан, паломничества способствовали вере в единство католического христианского мира, и без них этого чувства могло не быть. Это явление оказало воздействие на все классы общества. Среди самых «известных» грешников той эпохи были Фульк Нерра, граф Анжу, он совершил три путешествия в Святую землю, и Жоффруа, граф Бретани, он отправился туда же в 1008 году. В 1034 году викинга Харальда Сурового, позже ставшего королем Норвегии и погибшего в битве при Стэмфорд-Бридж, можно было встретить на берегах реки Иордан. Едва успели в 1052 году остыть тела убитых и едва пришла в себя изнасилованная аббатиса, как свершивший все это Свейн Годвинсон уже отправился босиком в Иерусалим, в путешествие, во время которого и умер [222]. Таковы были выдающиеся люди, откликнувшиеся на этот порыв, но сила этого призыва никоим образом не ограничивалась кругом важных лиц. О «бесчисленных толпах» паломников пишет летописец Родульф Глабер [223], и факты свидетельствуют, что едва ли он преувеличивал. Рим, хранилище стольких реликвий, никогда не почитали больше, чем в тот период, в те же годы огромное количество паломников из всех уголков стекалось в Компостеллу. А из Германии в Палестину под предводительством своих епископов отправилась группа численностью не менее 7 тысяч человек [224].
Читать дальше
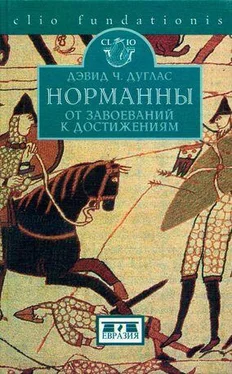
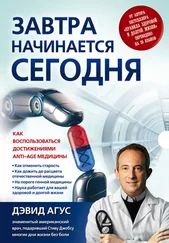
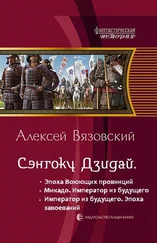
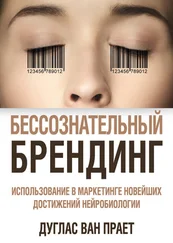
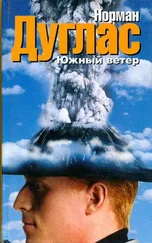

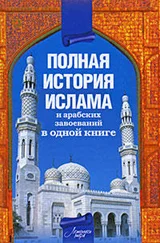
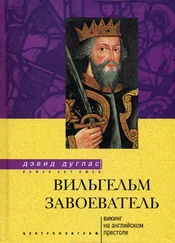
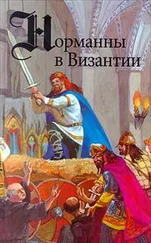
![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/398480/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o-thumb.webp)