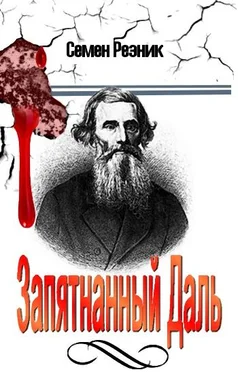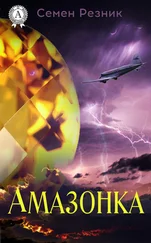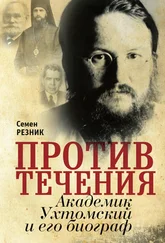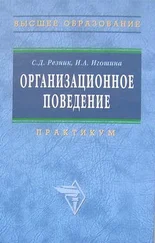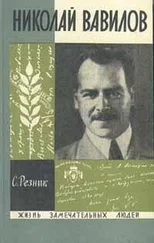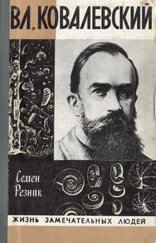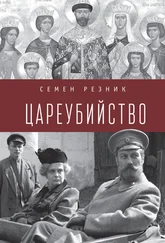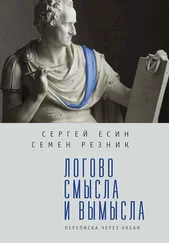Согласитесь, трудно представить, чтобы буквально через несколько месяцев после этого письма, не имея никого внешнего повода , российские власти изменили свою позицию на 180 градусов!
8.
Между тем, повод для «Розыскания» был, но он явился шестью годами раньше , в 1835-м, когда завершилось грандиозное судопроизводство по Велижкому делу, ничуть не менее одиозному, чем Дамасское. (Город Велиж относился к Витебской губернии, теперь он в Смоленской области).
Государственный Совет единогласно постановил обвинительный приговор генерал-губернатора князя Н.Н. Хованского отменить, всех евреев (более сорока) признать невиновными и из-под стражи освободить, а трех «доказчиц», которые под давлением следствия оговорили евреев и самых себя, сослать в Сибирь за ложные показания, а не за те кровавые преступления, в которых они «признались». Николай I приговор утвердил, но остался недоволен: за ходом дела он самолично следил много лет и к докладам князя Хованского относился с доверием.
Наиболее сильное раздражение вызвала у царя позиция адмирала Н.С. Мордвинова. Его заключение по Велижскому делу легло в основу решения Государственного Совета. Но оправдательного приговора ему казалось мало. Он еще настаивал на том, что освобожденных из-под стражи евреев следует на восемь лет освободить от налогов. Ибо, по его словам, «если правительство имеет право и власть наказывать виновных, то ему взаимно предлежит и обязанность вознаграждать безвинно пострадавших, без чего не будет и правосудия». [97] Цит. по: Велижское дело: Документы, Antiquary,Orange,CT, 1988. С. 112
Когда это требование Государственный Совет отклонил, Мордвинов подал Особое мнение государю.
В связи этим государь в своей резолюции написал, что хотя он согласен, что евреев следует освободить из-за недоказанности вины, но «внутреннего убеждения, чтобы убийство евреями произведено не было» он не имеет и иметь не может. Он написал далее, что «между евреев существуют вероятно изуверы или раскольники, которые христианскую кровь считают нужною для своих обрядов, — сие тем более возможным казаться может, что к несчастью и среди нас христиан, существуют иногда такие секты, которые не менее ужасны и непонятны». [98] Там же, с. 113–114.
Министерству внутренних дел было спущено повеление исследовать вопрос о еврейских ритуальных убийствах. Выполнить это задание было поручено Департаменту иностранных исповеданий, который возглавлял В.В. Скрипицын. Это было вполне логично: иностранными исповеданиями считались все религиозные течения кроме православия.
При внимательном чтении «Розыскания» видно, что его автор приложил массу стараний к тому, чтобы проиллюстрировать и подтвердить главную мысль высочайшей резолюции. То есть он усердствовал «под мудрым руководством». Отсюда, между прочим, понятно, зачем ему понадобилось перечислить «ужасные и непонятные секты», которые «существуют и среди нас христиан».
Даль, как было отмечено, поступил на службу в министерство внутренних дел спустя шесть лет.
9.
Биографический очерк П.И. Мельникова о Дале основан отнюдь не только на личных воспоминаниях. Мельников опрашивал людей, знавших В.И. Даля в разные периоды жизни или что-то слышавших о нем, а слухов ходило много: ведь «посредственный этнограф и заурядный литератор» был знаменитостью.
О том, что Даль будто бы написал исследование о еврейских ритуальных убийствах, Мельников, по-видимому, узнал от Петра Ивановича Бартенева, хранителя Чертковской библиотеки, редактора журнала «Русский архив», и — патентованного антисемита, к тому же человека, склонного к розыгрышам. Именно Бартенев первым пустил эту утку, что ясно показано в моей работе «Запятнанный Даль». Но для Панченко это факт неудобен, он о нем не упоминает, первым называет Мельникова, дабы создать впечатление, что тот мог узнать об этом только от самого Даля. Так выстраивается цепочка: Мельников поверил Бартеневу, Панченко — Мельникову. Разница в том, что Мельников не мог иметь представления об убогости этого сочинения, ибо его не читал, а Панченко — читал. И вынес весьма оригинальное суждение. По его мнению, ««Розыскание о убиении евреями христианских младенцев» было, в сущности, не антисемитской или антииудаистической, а антисектантской книгой» (104). А потому автора «Розыскания…» не следует обвинять « в каком-либо особо выраженном антисемитизме », ибо это сочинение «представляет собой добросовестную, хотя и довольно неуклюжую компиляцию польской и немецкой «наветной литературы»», оно всего лишь « инкорпорировано в формировавшийся к этому времени дискурс имперского сектоведения » (103). (Курсив мой — С.Р .).
Читать дальше