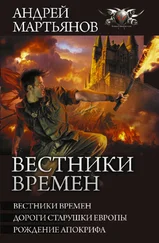Под влиянием монастырского ригоризма раннее Средневековье сурово осуждало смех. В начале XIII века он становится одной из составляющих духовности, как ее понимали Франциск Ассизский и первые францисканцы. Появилась тенденция относить Страшный Суд на как можно более поздний срок. Как показал Агостино Паравичини Бальяни, Роджер Бэкон и папская курия питали в XIII веке страстный интерес к возможному продлению земной жизни человека. Расширение познаний о мире подтолкнуло развитие картографии: карты стали гораздо точнее, чем карты раннего Средневековья, которые были, в сущности, продуктами идеологии, чьи создатели не слишком заботились о научной достоверности. В середине XII века епископ Оттон Фрейзингенский, дядя Фридриха Барбароссы, счел, что распространение христианства на земле завершено и Град Божий создан, то есть приблизился конец истории; однако под влиянием становления монархий в Англии и Франции, испанской Реконкисты и великих церковных соборов, а также идей Иоахима Флорского Европа обрела чувство истории.
Наконец, в XII и XIII веках образовались два типа человеческого идеала, устремленные в основном к земному преуспеянию, хотя это же преуспеяние должно было привести и к спасению души. Первый тип — куртуазность, вдохновленная придворными манерами и распространявшаяся в дворянских и рыцарских кругах; в XIII веке, как мы видели, куртуазность стала синонимом учтивости и даже цивилизованности в современном смысле слова.
Второй идеал — это идеал честного человека. Это идеал мудрости, умеренности, гармоничного сочетания храбрости и скромности, доблести и благоразумия. Кроме того, это, по сути, мирской идеал. Оба идеала воплощены в двух главных персонажах «Песни о Роланде» — книги, весьма популярной в XII и XIII веках. Роланд воплощает доблесть, Оливье — мудрость. И король Франции Людовик IX — не только святой, но и честный человек. Спасение отныне достигается на земле так же, как и на Небе.
Наконец, не отрицая коллективных идеалов, принадлежности к роду, братству, корпорации, средневековые люди — во всяком случае, некоторая их часть — начинают утверждать ценность отдельной личности. В конце земной жизни возникает Чистилище — личный потусторонний удел, который предшествует потустороннему уделу коллективному, то есть Страшному Суду. Мишель Зенк (Zink) в одном любопытном исследовании показал, что литературу того времени пронизывает «я». В Европе XIII века побеждает авторское начало.
VI. ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЛИ ВЕСНА НОВОГО ВРЕМЕНИ?
Я использовал здесь название любопытной книги Филиппа Вольфа (1986), который, в свою очередь, позаимствовал заглавие знаменитого труда нидерландского историка Йохана Хёйзинги (Huizinga) «Осень Средневековья». Период XIV–XV веков, традиционно считавшийся концом Средневековья, как правило, характеризуют еще и как эпоху упадка той относительной стабильности и относительного процветания, которые установились в Европе в XIII веке. Ги Буа (Bois) недавно высказал новую, более позитивную точку зрения на этот период: согласно ей, имел место лишь временный кризис феодализма. В своей аргументации он опирается в основном на ситуацию в Нормандии, что несколько снижает доказательность его гипотезы. Я же, как и большинство медиевистов, считаю, что проблемы XIV–XV веков явились результатом взаимоналожения сразу двух факторов, предшествовавших новому возрождению, которое станет уже великим Возрождением: с одной стороны, кризис всех структур европейского общества и увеличение его размеров, а с другой — катастрофическое нагромождение все новых бедствий. Люди XIV века, над которыми довлели апокалиптические видения, спустившиеся с Небес на землю, нередко представляли себе несчастья, с которыми им приходилось сталкиваться, в образе трех всадников из Апокалипсиса: это голод, война и эпидемии. Все эти напасти были знакомы людям Средневековья и раньше, но их массовый характер вместе с некоторыми новыми обстоятельствами привели к неслыханным доселе последствиям.
Голод оказался особенно ужасным: историки, изучающие климатические условия, например Эммануэль Ле Руа Ладюри и Пьер Александр (Alexandre), констатируют ухудшение климата, особенно в Северной Европе, связанное с длительным похолоданием и необычайно сильными дождями, из-за которых 1315–1322 годы оказались невероятно голодными: неурожай принял пугающие размеры.
Войны на протяжении всего Средневековья носили более или менее выраженный эндемический характер, то есть продолжались на определенных территориях долгие годы. Однако сыграла свою роль миротворческая деятельность Церкви и некоторых правителей, например Людовика Святого, стремление найти условия, способствующие преуспеянию, а также прекращение локальных феодальных войн в ходе развития монархий — все это способствовало уменьшению числа войн. Но в XIV веке войны опять вспыхивают чуть ли не повсюду, и особенно подействовало на современников то обстоятельство, что военные кампании приняли иной характер. Постепенное формирование национальных государств, которое сначала способствовало миру, прекратив феодальные раздоры, мало-помалу привело к тому, что начались новые, «межнациональные» войны. Наглядным примером может служить бесконечная Столетняя война, которая воскресила, но уже в новом виде, старинную вражду между Францией и Англией, зародившуюся в XII–XIII веках. Ощутимый, хотя и медленный технологический прогресс тоже способствовал тому, что война приобрела новый облик. Самым заметным событием с точки зрения технического прогресса стало появление пушек и пушечного пороха, но техника осады тоже совершенствовалась, и эти изменения привели к постепенному вытеснению укрепленного замка двумя другими типами резиденций знати в сельской местности: это, во-первых, аристократический замок, который, как правило, был местом жительства, а также утех и демонстрации удали, а во-вторых, крепость — чаще всего они строились для королей или других правителей и предназначались для того, чтобы выдержать пушечную атаку. Кроме того, в войны вовлекаются все более широкие круги населения; появляются целые группы людей, живущих за счет войны. Экономические и социальные кризисы увеличили число бродяг, которые, если им повезло найти главаря, сбивались в вооруженные банды, и чинимые ими грабежи и разрушения были серьезней, чем те, что могла произвести регулярная армия. В Италии профессиональные военачальники, часто весьма известные, нанимались защищать города и целые государства, порой становясь заодно и правителями. Я имею в виду кондотьеров. Наконец, монархии, например Франция, содержали постоянную армию, солдаты получали жалованье, а наемники предоставляли свои услуги городам и правителям, причем отношения были уже более постоянными и более структурированными, чем в прежние времена. В этом смысле существенно отличалась, по сравнению с другими странами, ситуация в Швейцарии.
Читать дальше
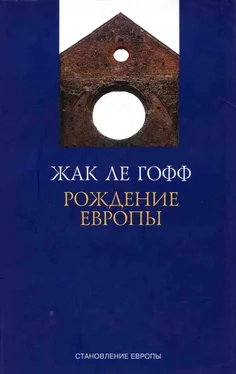

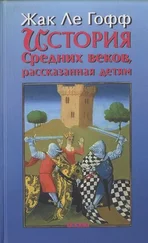
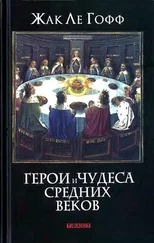
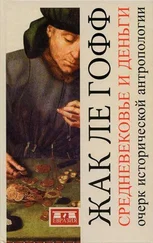
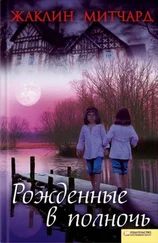



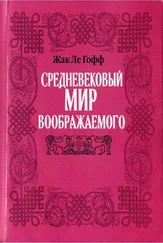

![Андрей Мартьянов - Вестники времен - Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/430811/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen-thumb.webp)