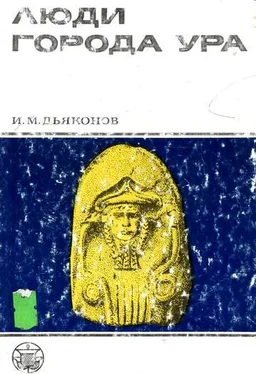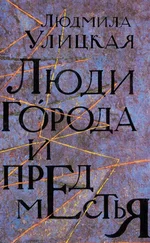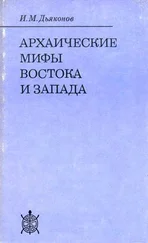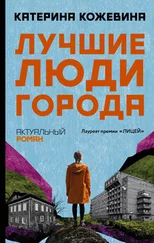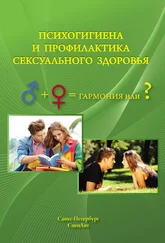Однако, несмотря ни на какие завоевания, жизнь должна была продолжаться, и землю надо было орошать и пахать, и урожай взращивать и сжинать. Дело поддержания страны пропитанием перешло поэтому в руки отдельных семей. Так было в сельском хозяйстве, так было и в ремесле. И держателям земельных наделов, и начальникам мастерских, торговым агентам и всякого рода надзирателям — коль скоро они уплачивали завоевателю известный побор — ничто не мешало обращаться с подчиненной им частью государственного имущества как со своей собственной и стараться продолжать прежнюю хозяйственную деятельность уже к своей выгоде. Именно такую картину мы обнаружим в Уре XIX–XVIII вв. до н. э., которому посвящена настоящая книга.
С другой стороны, и владельцам негосударственной, общинной земли — коль скоро они уцелели от погрома и платили побор — ничто теперь не мешало заняться любым родом деятельности, в том числе ремеслом на продажу и торговлей — на свой страх и риск. Это касалось даже международной торговли: как ни опасны были в такое время пути между городами и царствами, но уклониться (или даже откупиться) от мелкого царька-вождя было все же легче, чем уклониться от всевидящего ока тоталитарного полицейского рабовладельческого государства типа «Царства Шумера и Аккада» времени III династии Ура или даже династии Иссина времен ее расцвета, потому что такое государство стремилось организовывать торговлю само и само получать львиную долю дохода.
В связи с повсеместным ростом частного хозяйственного сектора — притом что основой подлинной собственности на недвижимость могло быть только членство в общине — снова растет и значение общинных органов самоуправления, прежде всего общинного совета старейшин и выделявшегося из него общинного суда; но иногда упоминается и общинная сходка — либо всего поселения (особенно в поселениях мелких), либо квартальная.
Новое значение приобретают храмы. Дворцовые хозяйства могли быть разорены амореями, заменившими доход с них прямыми поборами с населения, но с храмами дело обстояло иначе. Во-первых, они в меньшей степени подвергались разгрому, так как амореи тоже почитали, или, как тогда говорили, «боялись» ( iplahū ), шумеро-аккадских богов; во-вторых, хозяйства храмов восстанавливались быстрее потому, что благосклонность богов в любом случае должна была представляться важнейшим делом для всех — от земледельца до царя. Однако в организации храмов произошли большие перемены. Возможно, что храмовые хозяйства и продолжали официально считаться частью царского, но у царьков не было ни желания, ни возможности их контролировать, и у нас почти нет сколько-нибудь надежных свидетельств о таком контроле царей над экономикой храмов. Храмы в значительной степени вернули себе положение центров своих общин (жрецы занимают почетное место в ряду общинных старейшин, и еще Хаммурапи в своих законах возлагал на храмы чисто общинные обязанности). [22]Во всяком случае, храмы фактически опять стали гораздо самостоятельнее от царской власти, чем в эпоху ранних деспотий. Это видно прежде всего по замещению храмовых должностей. Обладатели их оказались в таком же положении, как и торговые агенты, начальники мастерских и т. д.: должности оказались в их неподотчетном владении, не отличавшемся от собственности. Поэтому некоторые, менее значительные из этих должностей немедленно стали предметом купли-продажи: продавалось, скажем, исполнение должности жреца gudu(g) 4— или gudá, аккадск. pašišu(m) — за месяц, за три дня в месяц, за один день, за полдня… В связи с раздачей храмовых должностей составлялись по дням специальные календари-расписания дежурств обладателей таких частичек этих должностей. В этом не было ничего противоречащего мировоззрению того времени: древний шумеро-аккадский жрец не был священником в средневековом понятии, т. е. лицом, отмеченным особой духовной благодатью; ни в шумерском, ни в аккадском языке вообще не было понятия священства или духовенства как чего-то отличного от людей светских. Очень трудно провести черту между жреческим и административным персоналом храма — хотя «администраторы» чаще получали вознаграждение не в серебре, а в виде земельного надела, но это отнюдь не было общим правилом. Кроме того, были лица, совершавшие по профессии сакральные действия, но не принадлежавшие к храмовому персоналу (гадатели, заклинатели, ремесленники, изготовлявшие и чинившие статуи и богослужебный инвентарь). Не было термина, который обнимал бы всех вообще людей, посвятивших себя обрядовым, богослужебным действиям; разве что применительно к данному конкретному храму его персонал назывался «людьми такого-то бога», но это понятие включало не только богослужебный, но также и административный и рабочий персонал. И это понятно: ведь целью любых действий, происходивших в храме, было прежде всего обслуживание божества (как во дворце — обслуживание царя), — конечно, такое обслуживание, которое могло бы снискать его милость, — но ведь и весь род человеческий, по шумерскому учению, был создан только для обслуживания и кормления богов; [23]а раз так, то между главным жрецом — sanga, аккад. šangû — и посыльным храма — rá-gab, аккад. rakbu(m) — различие было только в ранге: оба служили на дом бога, и именно поэтому никого не занимало, будет ли лицо, купившее право на 1/ 360должности (и доходов) какого-либо служителя культа, носителем особой благодати. Ведь и каждый глава семьи был у себя дома жрецом и совершал сакральные действия. Но приступать к священнодействию служитель божества должен был в ритуально чистом состоянии — весь выбритый, умытый, умащенный, без телесных изъянов.
Читать дальше