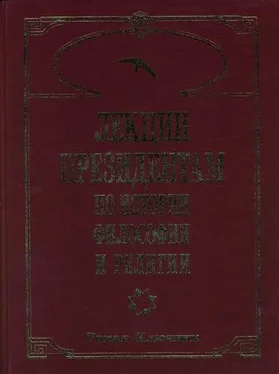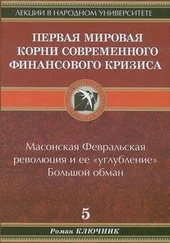Никого нельзя осуждать, каждый волен прожить свою жизнь как он хочет, и здесь у каждого есть выбор. А кто-то приходит на похороны во всём белом, ибо относиться к этой жизни как к одной из многих этой личности, и радуется переходу из одного «фильма» в другой, пытаясь учесть все закономерности этой науки.
«Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума» — говорил величайший мыслитель XX века К. Э. Циолковский. А. Шопенгауэр:
«Если негры по преимуществу попали в рабство, то это является результатом того, что они по сравнению с другими человеческими расами отстали в интеллектуальном развитии».
«Тот, кто смел, кто не боится смерти, рискуя жизнью, но жертвуя достоинством — становится господином… Раб — человек, готовый трудиться в поте лица для того, чтобы сохранить жизнь» — констатирует истину Гегель. Как видим — отношение к смерти определяет много.
А некоторые, особо умные, пытаются решить вопрос смерти оригинальным философским путём —
«Привыкай думать, что смерть для нас ничто: ведь все и хорошее и дурное заключается в ощущении.
И, если держатся этого знания, то смертность жизни станет для нас отрадна: не от того, что к ней прибавится бесконечность времени, а от того, что от нее отнимется жажда бессмертия. Поэтому ничего нет страшного в жизни тому, кто по-настоящему понял, что нет ничего страшного в не-жизни.
Стало быть самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, — когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют» — так «одурачил» смерть древнегреческий мыслитель Эпикур.
«Смерть частиц животного существа мы знаем, смерть самих животных и человека как животного мы знаем; но смерть разумного сознания мы не знаем и не можем знать, потому-то оно-то и есть сама жизнь. А жизнь не может быть смертью…» — не хуже Эпикура объясняет наш великий Лев Толстой, и продолжает свою логику далее — «Хотя я не могу ясно доказать этого, я всё-таки знаю, что-то разумное и свободное, нетелесное начало, которое живёт во мне, не может умереть… Смерть и рожденье — два предела. За этими пределами одинаковое что-то».
И Лев Толстой цитирует великого грека Гераклита: «Когда мы рождаемся, наши души кладут в гроб нашего тела».
«Смерть формы есть лишь только прекращение деятельности вечной силы жизни в одном из проявлений, предшествующее другому ее проявлению» — объяснял знаменитый врач Парацельс.
«Мы боимся потерять при плотской жизни наше «я», но этот страх определяется тем, что мы не умеем и не хотим отделять наше подлинное «я» от нашей животной личности. Между тем, подлинное «я», наше особенное «я» не ограниченно ни пространством, ни временем» — продолжает оптимистически объяснять Лев Толстой.
«В значении Эго заключается секрет бессмертия» — поддерживает эту мысль и немного добавляет его современник знаменитый суффий Хазрат Инайят Хан. То же самое, но по-другому объяснял выдающийся русский мыслитель Иван Ильи:
«Каждому из нас даётся своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилище (энергию), в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает своё существование и освящается в своём творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия…
И тот, кто хоть несколько касается этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймёт и примет слова преподобного Серафима Саровского, сказавшего:
«Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным». Мы — Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение».
Иван Ильин обратил внимание и на другой аспект жизни и смерти:
«Но каждый человек имеет определённую ступень достижимого для него совершенства… И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу».
В этом случае Лев Толстой рекомендовал: «Для бессмертной души нужно такое же и дело бессмертное, как и она сама. И дело это — бесконечное совершенствование себя и мира — и дано ей».
Читать дальше