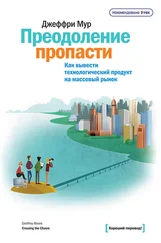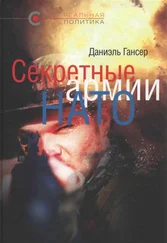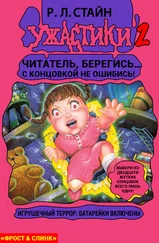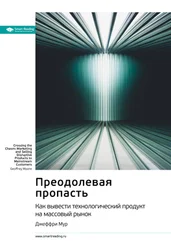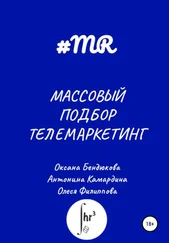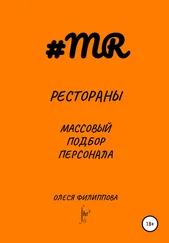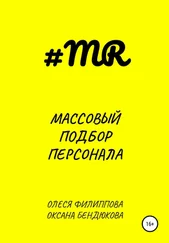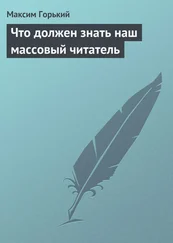Однако именно виртуозность, с которой было сверстано дело ОТД, оказалась главным препятствием для историка, поскольку с первой же страницы он сам в нем словно бы присутствует как «возможный читатель», для которого (а вовсе не для выяснения истины) оно и ведется. Первый том, целиком составленный из документов, сопутствующих аресту [91] В первом томе содержатся следующие документы на каждого арестованного: постановление о производстве обыска, протокол обыска, постановление об избрании меры пресечения, анкета арестованного, постановление о привлечении к следствию в качестве обвиняемого, справка о лишении избирательных прав, характеристика с места службы, заявление о желании сотрудничать — если таковое подавалось.
, выглажен до блеска: в нем нет никаких свидетельств, предшествующих задержанию красноармейца Г. Н. Гуляева. Как будто на оперуполномоченного Ф. П. Мозжерина вдруг озарение снизошло: а не арестовать ли мне этого бойца? А заодно еще пятерых, да еще попов штук эдак двадцать… И только чудом сохранившаяся в шестом томе папка наблюдательного дела позволяет увидеть кухню, где действительно заваривалась каша. Складывается впечатление, что концы прятались в воду осознанно и очень старательно. Совершенно бесследно исчезла, к примеру, вся изъятая при обысках переписка (а только у Гуляева было обнаружено три тетради со стихами и 63 письма).
Помимо этого, нельзя ни на секунду забывать о том, что дело ОТД — первый опыт поточной фальсификации показаний (на это указывали все участники ведения следствия). Только путем скрупулезного сравнительного анализа протоколов, составленных всей следовательской бригадой, нам удалось примерно вычислить типичные паттерны дискурса власти и отделить их от спонтанной речи обвиняемых. Последняя точна в деталях и бытовых подробностях, всегда окрашена эмоциями и личностными коллизиями и в большинстве случаев идет «поперек» вполне предсказуемых ожиданий следствия. Однако даже после этого достоверность некоторых деталей оказывается под сомнением, и, руководствуясь принципом «да не прими неистинное за истинное», мы их опустим в тех случаях, когда они не играют существенной роли.
Основную сюжетную линию удалось проследить с 1935 г., некоторые побочные — с начала 1930-х гг. В нашей реконструкции мы будем придерживаться хронологической последовательности событий. Итак…
В марте 1935 г. в войсковой сборный пункт, располагавшийся на крупной узловой станции г. Буй, стали прибывать телячьи вагоны с новобранцами. Среди массы двадцатилетних парней, призванных на службу в ряды РККА, выделялась группа граждан второго сорта — «лишенцев». В личном деле каждого из них имелась лаконичная выписка из протокола заседания избирательной комиссии соответствующего уровня, сообщавшая, что имярек лишен избирательных прав как служитель религиозного культа (сын служителя религиозного культа), кулак (сын кулака). Разумеется, доверить подобной публике защищать с оружием в руках государство диктатуры пролетариата было никак невозможно. Поэтому их зачисляли в тылополчение и использовали в народном хозяйстве, преимущественно на тяжелых строительных работах.
Именно из подобного контингента формировался 61 отдельный батальон тылополчения, который после принятия новой, сталинской конституции (формально ликвидировавшей саму категорию «лишенцев») в апреле 1937 года будет торжественно переименован в 9 отдельный строительный батальон РККА. По завершении формирования батальон убыл к месту несения службы — в г. Пермь на строительство завода № 19. Так, волею случая, и повстречались два основных действующих лица будущей драмы — Георгий Гуляев и Николай Лебедев.
Из показаний свидетеля Ощепкова от 9 марта 1937 г.:
«В ноябре месяце 1935 года в конторку жилстроительства завода им. Сталина зашли трое тылополченцев, один из них, фамилию я его не знаю, лет 24-х, среднего роста, лицо белое румяное, продолговатое» [92] ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Наблюдательное дело 12396. Л. 3.
.
Вот этим-то белолицым румяным красавцем и был, согласно материалам Пермского ГО НКВД, Георгий Никифорович Гуляев. Родился он в г. Тихвине Ленинградской области в очень религиозной семье. В шестнадцать лет Гуляев устроился служкой в тихвинский монастырь, где вскоре попался на глаза епископу-обновленцу Степанову Гавриилу Григорьевичу (в монашестве — Досифею). Водился за епископом один грешок — любил он окружать себя молоденькими смазливыми прислужниками. По его настоянию Гуляев вскоре был посвящен в дьяконы, и между ними установились очень близкие отношения. Во всяком случае, когда Степанова перевели служить в г. Гомель, он взял с собой Гуляева, и тот «жил у него на квартире» [93] ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Д. 12396. Т. 2. Л. 43.
.
Читать дальше