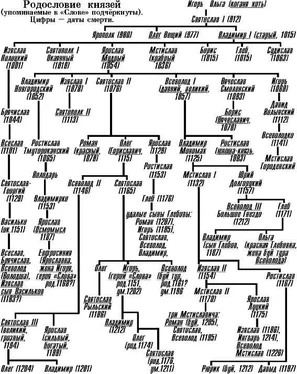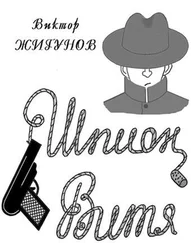Может быта, не шеломемьверно? В стихе оказывается пять е и три других гласных. Пять и три… Нельзя ли какое-то езаменять иным звуком?
Рассматриваем по порядку. Уже — ужо . Об этом всерьёз говорить не приходится. Шоломемь. Слово шоломя было, и если поэт употреблял себеи собе, приломитии преламати, так почему бы ему после ш не произносить то е , то о ? Но смысла в стихе всё равно не прибавляется.
Шеломомь? В поэме как раз начинается описание битвы, в которой русичей ожидает поражение. Если бы они находились среди своей земли, то она пришла бы на помощь, защитила. Земля толкуется и как народ (так же, как поле — половцы). Что если понимать так: она уже не шлем, не защита! Тем более что земля своей выпуклостью, особенно заметной при открытом степном горизонте, напоминает шлем. Автор не просто повторил строчки, он чуть-чуть изменил их — и создал замечательный поэтический образ!
Но… грамматика разрешает сказать «земля была не шлемом», а можно ли сказать, что она «есть не шлемом»? В самом «Слове» похожих конструкций нет. Правда, в нём много сравнений вроде Гзакъ бежить серымь вълкомь. Кстати, у Маяковского тоже: «Я волком бы выгрыз…» — творительный падеж часто выполняет такую роль, в этом же стихотворении дальше: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза…» (какому-нибудь ревнителю школьных норм оборот мог бы даже показаться слишком смелым: паспорт достают рукой, а не дубликатом). У С. Кирсанова: «Лес окрылён, веером — клён». Мы говорим «пыль столбом» или «пыль стоит столбом» — глагол можно пропустить. Связку есть мы обычно не употребляем, ставя, и то не всегда, вместо неё тире («Я — русский»). А в XII веке она была обязательна.
Так принимать ли сравнение «земля — шлем»?
Если нет, то и выйдет иллюстрация к тому, как далеко заводит арифметика сама по себе. И после всех усилий останется только сказать, как говорят «О боже!», — о, русская земля!
Однажды автору этой книги встретился у В. Астафьева неправильно, как показалось вначале, употреблённый предлог по-за . Двойные предлоги, кроме некоторых ( из-под, из-за ) у нас почти забыты, и немудрено было бы ошибиться в их применении. Сказать «по-за» можно, если что-то длинное располагается за чем-то тоже протяжённым или кто-то проходит за ним. У писателя прорубь находится за баней. Но ведь ни прорубь, ни баня — не длинные предметы! Уж у кого-кого, а у В. Астафьева отыскать языковую неточность — почти заслуга. Я принялся перечитывать предшествовавший текст. И что же? — страницами двумя раньше обнаружилось упоминание: бани тянулись по берегу реки одним сплошным строением, а прорубь представляла собой многометровую щель во льду. Писатель совершенно ясно видел то, о чём говорил, и употребил единственно точный предлог. Кому знакомо удовольствие от изящно решённого уравнения, от правильно взятой ноты, тот поймёт красоту этих всего-то четырёх букв.
Такую же радость случается испытывать, найдя в «Слове о полку Игореве» чуть-чуть неверно скопированное переписчиком место и возвратив ему изначальный вид.
Например, в издании 1800 года читаем: Половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всехъ странъ. Рускыя плъкы отступиша. Часть отрывка — Половци идуть отъ Дона и отъ моря — уже цитировалась, в ней половину слогов занимает о. Дальше оказалась отдельная фраза, и текстологи давно вычеркнули первое т из отступиша, получилось, если говорить по-современному, «Враги со всех сторон русские полки обступили».
Но равенства не вышло. Иногда старославянское странъна русское сторонъ заменяют не в переводе, а в самом тексте, пишут не рускыя, а рускые, с «ятем» на конце. С любой из этих поправок равногласие выполняется, но первая не соответствует другим местам поэмы, вторая противоречит грамматике.
В поисках варианта, удовлетворяющего всем требованиям, замечаем, что хорошо было бы какое-то о заменить на у … Утъ всехъне напишешь. А вот уступиша…
Какое же изумительно точное словоупотребление открывается! «Половцы идут от Дона и от моря. И со всех сторон русские полки уступили». Не отступили, что было бы позорно, тем более ещё до начала сражения. Да бежать им и некуда, они окружены. Русские воины лишь немного уступили, сжатые превосходящими силами врага. Они сплотились теснее, такой кулак трудно разбить. То есть речь не о бегстве, а, наоборот, о готовности к битве.
Читать дальше