Начали сооружать себе жилье. Нарезали из снега кирпичей, выложили стенки, оставили довольно высокий проем для входа. Из ручья носили ведрами воду и слегка обрызгивали стены, чтобы они покрылись ледяной корочкой и домик стал крепче. Только крыша из снега у них никак не получалась. Пришлось покрыть ее парашютом.
За день так умаялись, что уснули крепко, даже беспокойство не помешало.
Утром первым проснулся Костин.
— Под нами ручей или болото, я насквозь промок…
— И у меня бок мокрый, — ощупывал себя Игнатьев.
— Откуда сочится столько воды, и мне досталось, — отозвался Ляндэ.
Разгадку поняли скоро. От людского тепла оттаял промерзший торфяник, вот вода через ватники и пропиталась.
— Надо что-то придумать. Я даже на одесском пляже любил лежать в сухих плавках. — Ляндэ напомнил друзьям о теплых берегах, где прошла его молодость.
— А я ходить в море начал здесь, помощником повара. На раздолье морское нагляделся, а пляжей не видывал, — не то сокрушался, не то горевал о теплых краях Костин.
— А ты разве не радистом плавал? — спросил Костина Толя Игнатьев.
— Нет. Я родом из Вятки. Мы, вятские, ребята хватские. — Костин напомнил извечную шутку своих земляков. — В тридцатом году сюда с родителями приехал. Закончил семилетку. Отец говорит: «Хватит, и с этой грамотой можно с толком в жизни обойтись. Иди-ка работай». И нанялся я поваренком. Шестнадцать годков мне исполнилось, когда ступил я на палубу траулера «Ким», стал членом экипажа, на нем впервые увидел море. Это вот море, Баренцево.
— Подобрал ты себе хлебное местечко, — пошутил Игнатьев.
— Да уж куда аппетитнее. Судовой камбуз — не ресторан, где ходят в крахмальных воротничках и в смокинге. Все драйки, мойки, помои — мои…
— А потом как же? — уже посерьезнев, расспрашивал Игнатьев.
— Поплавал навигацию, понюхал море, увидел, что гожусь, тогда и задумал поступать в мореходку. Приглянулась мне служба радистов, они не мокнут и не дрогнут на верхней палубе. На судне самые чистенькие да аккуратные.
Подсушились, поели, пошли искать тюки с грузом. И опять весь день промаялись без пользы.
Утром снова пробудились от сырости под собой, парашюты пропитались влагой насквозь.
— Не такие мы горячие, чтобы собой оттаивать землю, да еще сквозь фуфайки. — Костин ощупывал себя по бокам.
— А много ли надо… Тепло по чуточке, минута за минутой, отогревает водичку, — размышлял в поисках объяснений Ляндэ. — Надо делать подстилку еще толще.
Натаскали камней, выложили из них лежаки, сверху в пять-шесть рядов устлали их парашютами. Мокнуть перестали.
Снова целый день ходили в поисках имущества, обыскали еще большой квадрат. Как ни тягостно, пришлось признать, что груз пропал.
На третий день с сопки разглядели море. Сверились по карте. Выходило, летчик забросил их километров на двадцать дальше, чем полагалось.
Место, выбранное для житья, было удобным, но задание выполнять отсюда нельзя, море не просматривается.
Поневоле придется искать новую базу, обустраиваться в другом месте.
На обратном пути заметили обнесенную колючей проволокой землянку. Подкрались поближе, понаблюдали. Ни людей, ни следов. Рядом стояли опоры, как будто для высоковольтки, но провода не натянуты. Потом еще встречались такие. Ставили эти опоры, скорее всего, пленные, их и держали за проволочным ограждением. Подходить к землянкам опасались.
Подходящую сопку выбрали километрах в двадцати пяти от того места, где приземлились. Осмотрели ее кругом, приметили, в какие стороны можно уходить в критические минуты. Море виднелось отчетливо, обзор широкий. Воду для питья тоже нашли поблизости. Сопоставили с картой: обосновались всего в трех-четырех километрах от той точки, которую им определили в задании.
Делать полные марши от одной базы до другой сочли неразумным: утомительно и опасно. Двумя маршами перенесли обе порции груза. На ночь ушли на свою стоянку.
Утром продолжали начатую работу.
К вечеру шли обратно к месту выброски. До снежного домика оставалось километра три, когда Толя Игнатьев, самый рослый из троих, скомандовал:
— Ложись, немцы…
Плюхнулись в снег, замерли. Огляделись окрест себя, подползли к камням, руками нарыли перед собой снегу, вгляделись, куда показал Игнатьев. Зрение у Толи испортилось в отряде, после майской операции. Ходил он в очках, умудрялся не ронять их даже на лыжных переходах. То ли благодаря росту, то ли очкам, но примечал он все необычное раньше друзей. А может быть, просто был более внимательным.
Читать дальше


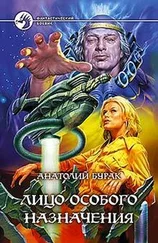




![Елена Соловьева - Ученица особого назначения [сетевая публикация]](/books/394405/elena-soloveva-uchenica-osobogo-naznacheniya-seteva-thumb.webp)
![Елена Соловьева - Невеста особого назначения [сетевая публикация]](/books/394408/elena-soloveva-nevesta-osobogo-naznacheniya-seteva-thumb.webp)



