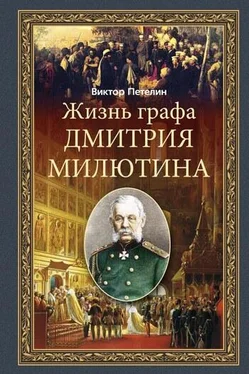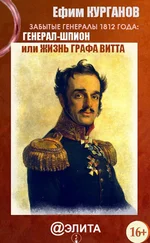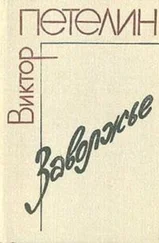– Дмитрий Алексеевич! Кажется, мы увлеклись нашим разговором, а молодые люди просили меня хоть немного рассказать о Париже и о литературных планах…
Тургенев крепко пожал руку Милютину. Больше они не виделись.
В этой главе много рассуждали о Достоевском. Хочу добавить лишь к этому письмо Ф.М. Достоевского от 15 октября 1880 года молодой писательнице П.Е. Гусевой:
«Многоуважаемая Пелагея Егоровна,
вместо того, чтобы так горько упрекать, Вам бы хоть капельку припомнить, что могут быть случай поста и всякие обстоятельства. Я жил все лето с семейством в Старой Руссе (Минеральные воды) и только 5 дней как воротился в Петербург. Первое письмо Ваше от 1 июля, адресованное в Вестник Европы, дошло до меня чрезвычайно поздно, в конце Августа. И что же бы я мог сделать сидя в Старой Руссе в Редакции Огонька, которой я не знаю и изо всех сил знать не желаю? Вам же не ответил – вы не поверите почему. Потому что если есть человек в каторжной работе, так это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней. С 15-го Июня по 1-е Октября я написал до 20 печатных листов романа и издал Дневник Писателя в 3 печат. Листа. И, однако, я не могу писать с плеча, я должен писать художественно. Я обязан тем Богу, поэзии, успеху написанного и буквально всей читающей публике России, ждущей окончания моего труда. А потому сидел и писал буквально дни и ночи. Ни на одно письмо с Августа до сегодня – еще не отвечал. Писать письма для меня мучение, а меня заваливают письмами и просьбами. Верите ли, что я не могу и не имею времени прочесть ни одной книги и даже газеты. Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю. А здоровье так худо, как Вы и представить не можете. Из катара дыхательных путей у меня образовалась анфизема – неизлечимая вещь, (задыхание, мало воздуху), и дни мои сочтены. От усиленных занятий падучая болезнь моя тоже стала ожесточеннее. Вы по крайней мере здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имеете все-таки смертельной болезни, и дай Вам Бог много лет здравствовать, ну а меня извините.
Второе же письмо Ваше с упреком от Сентября я получил лишь на днях в Петербурге. Все приходило на мою квартиру без пересылки в Ст. Руссу, вследствие ошибочного моего собственного распоряжения (конечно, по недоумению), и я разом получил десятки писем. – С Огоньком я не знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной Редакцией не знаюсь. Почти все мне враги – не знаю за что. Мое же положение такое, что я не могу шляться по Редакциям: вчера же меня выбранят, а сегодня я прихожу говорить с тем, кто меня выбранил. Это для меня буквально невозможно. Однако употреблю все усилия, чтобы достать Вашу рукопись из Огонька. Но куда ее пристроить? Всякая шушера, которую я приду просить, чтобы напечатали Ваш роман, будет смотреть на меня как на выпрашивающего страшного одолжения. Да и как я пойду говорить с этими жидами? С другой стороны, ведь эту рукопись надо прочесть предварительно, а у меня нет буквально ни минуты времени для исполнения самых святых и неотложных обязанностей: я все запустил, все бросил, о себе не говорю. Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я еще не ложился. А мне говорят доктора, чтоб я не смел мучить себя работой, спал по ночам и не сидел бы по 10 и 12 часов нагнувшись над письменным столом. Для чего я пишу ночью? А вот только что проснусь в час пополудни, как пойдут звонки за звонками: тот входит одно просить, другой другое, третий требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я разрешил какой-нибудь неразрешимый «проклятый» вопрос – иначе-де я доведен до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу.) Наконец депутация от Студентов, от Студенток, от гимназий, от Благотвор. Обществ – читать им на публичном вечере. Да когда же думать, когда работать, когда читать, когда жить.
В Редакцию Огонька пошлю и буду требовать выдачи рукописи – но прочесть, поместить – этого и понять не могу, как и когда я сделаю. Ибо буквально не могу, не имею времени и не знаю никуда дорог. Вы думаете, может быть, что я от гордости не хочу ходить? Да помилуйте, как я пойду к Стасюлевичу, али в Голос, али в Молву, али куда бы то ни было, где меня ругают самым недостойным образом. Если я принесу рукопись, и потом она не понравится, скажут: Достоевский надул, мы ему поверили как авторитету, надул, чтоб деньги выманить. Напечатают это, разнесут, сплетни выведут – Вы не знаете литературного мира.
Не дивитесь на меня, что я пускаюсь в такие разговоры. Я так устал, и у меня мучительное нервное расстройство. Стал бы я с другим или с другой об этом говорить! Знаете ли, что у меня лежит несколько десятков рукописей, присланных по почте неизвестными лицами, чтоб я прочел и поместил их с рекомендацией в журналы: вы, дескать, знакомы со всеми редакциями! Да когда же жить, то, когда же свое дело делать, и прилично ли мне обивать пороги редакций! Если Вам сказали везде, что повесть Ваша растянута, – то, конечно, что-нибудь в ней есть неудобное. Решительно не знаю, что сделаю. Если что сделаю – извещу. Когда – не знаю. Если не захотите такой неопределенности, то уполномочьте другого. Но для другой я бы и не двинулся: это для Вас, на память Эмса. Я Вас слишком не забыл. Письмо Ваше (первое) очень читал. Но не пишите мне в письмах об этом. Крепко, по-дружески, жму Вашу руку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу