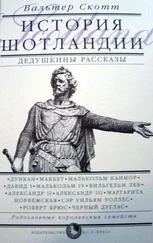Дмитрий это прекрасно понял. Еще во время Ольгердова похода отряды москвичей пытались атаковать Смоленскую землю. В 1370 г. они же напали на Брянск и Тверь. Михаилу вновь пришлось бежать в Литву. Во второй половине ноябре 1370 г. Ольгерд и Кейстут вновь выступили на Москву. Дмитрий уже собрал внушительное войско и продолжал подкреплять его новыми силами. Готовые к битве отряды преградили дорогу литовцам под Волоколамском ( Волоком Ламским ). Литовцы их разгромили, но даром потратили время, штурмуя Волоколамскую крепость (там погиб опытный московский полководец, березуйский князь Василий). Ольгерд снял осаду и вновь подступил к самой Москве. Здесь он простоял восемь дней, предав округу огню и разору. В то же время были начаты переговоры с Дмитрием. Последнему была ясна цель Ольгерда: литовцы не собирались брать Москву, но стремились унизить и ослабить Московского великого князя. Это не могло не волновать Дмитрия, но и Ольгерда тревожило накопление свежих русских сил в Перемышле и Пронске (Рязанское княжество). Перемирие оказалось на руку обеим сторонам, и оно было заключено. Ольгерд вернулся, властно продиктовав условия соглашения, а много наобещавший, но оставшийся невредимым, Дмитрий мог и не выполнять своих клятв. Однако внешне оба соперника хотели продемонстрировать добрую волю: двоюродный брат Дмитрия, серпуховско-боровский князь Владимир Храбрый, женился на дочери Ольгерда Елене.
Оба московских похода совершались в условиях разраставшейся войны с крестоносцами. В апреле-мае 1369 г. Винрих Книпроде, разрушив отстроенный Новый Каунас, на том же месте вновь возвел Готтесвердер. В августе-сентябре литовцы осадили и взяли Готтесвердер, усилили его собственным предзамковым укреплением и восстановили Новый Каунас. В ноябре главный маршал Ордена Хенинг Шиндекопф разрушил все три литовские крепости. Повторилась трагедия 1362 г.: поспешивший на подмогу Кейстут пытался спасти замки, но не смог им помочь. Утвердиться в окрестностях Каунаса литовцам не удалось. В начале 1370 г. маршал Ливонии Андреас Штенберг разорил Упите, а комтур Кулдиги – землю Мядининкай. /142/
Стремясь уравновесить активность Ордена, Ольгерд и Кейстут во главе большого литовско-русского войска в феврале 1370 г. вторглись в Самбию. Был взят замок Рудава. Близ него литовцев настигли крестоносцы под началом Винриха Книпроде. Великому магистру удалось разрезать силы Ольгерда и Кейстута. Последний был вынужден отступить. Ольгерд успел закрепиться в лесу, но и оттуда был выбит. Поле боя осталось за крестоносцами, но это была Пиррова победа. Пали их самые видные вожди – главный маршал Хенинг Шиндекопф (ему в лицо попало брошенное литовцем копье), комтур Бранденбурга Конрад Гаттенштейн и вице-комтур Генрих Штокхейм, комтур Редена, 26 рыцарей Ордена и 3 рыцаря-крестоносца из Европы. Хотя у литовцев уже были лучники, все же они предпочитали метать легкие копья (при схожих обстоятельствах погиб под Волоколамском князь Василий). Это умение особенно выручало в ближнем бою, однако оно одновременно свидетельствовало, как неравномерно проявлялся прогресс в литовском военном деле.
Проиграв бой близ Рудавы, Ольгерд и Кейстут все же достигли своей тактической цели: превентивный удар по Ордену был нанесен. В таких условиях Ольгерд в конце 1370 г. мог выступить на Москву. Суть, однако, заключалась в том, что действие подобных превентивных ударов было не долгим. Еще в том же 1370 г. крестоносцы одним махом разорили пространства, для опустошения которых ранее требовался отнюдь не один поход. Это были Кальтиненай, Видукле, Вайкяй, Расейняй, Арёгала, Гайжува, Паштува. Кейстут кружился как белка в колесе: в середине 1370 г. он разорил окрестности Ортельсбурга, в начале ноября помогал Любарту на Волыни, во второй половине месяца уже шел вместе с Ольгердом на Москву. Военные действия против поляков (они совпали со смертью Казимира Великого, последовавшей 5 ноября) были успешны: литовцы заняли Владимир и все Волынские земли, утраченные по договору 1366 г.
Литовские князья и воины не слезали с коней. Ресурсы военной монархии, переросшей в великую державу, еще приносили плоды. В начале семидесятых годов (если это не произошло в конце шестидесятых) к Великому княжеству Литовскому были присоединены Чернигов, Новгород-Северский (их получил сын Ольгерда Корибут), Стародуб, Рыльск (доставшиеся Патрикею Наримонтовичу) и Трубчевск (которым стал управлять ранее утвердившийся в Брянске сын Ольгерда Дмитрий). Второй поход Ольгерда на Москву произвел достаточно сильное и длительное впечатление. Михаил Тверской даже был утвержден Золотой Ордой в качестве князя Владимирского. На стыке 1370–1371 г. Ольгерд обратился к Константинопольскому патриарху Филофею с жалобой на митро- /143/полита Руси Алексия. Жалоба была вполне обоснованна, в ней говорилось об огромных расходах, произведенных Алексием в очевидно политических целях и легших тяжким бременем на всю русскую Церковь. Умудренный Филофей отнесся к жалобе со всей серьезностью и отправил в русские епископства своего уполномоченного Киприана. С этим болгарским священнослужителем Ольгерд нашел общий язык. Тяжба Киприана и Алексия затянулась, однако она успела ослабить влияние Алексия в православных приходах Великого княжества Литовского. На сей раз великий князь Московский, благоволивший Алексию, был вынужден проявить непослушание духовному центру православной Церкви. Впервые религиозная политика Ольгерда привела к стойкому успеху. Казалось, его походы на Москву оправдались. Однако потенциал Москвы и казна ее правителя делали свое дело. Организованная Дмитрием Московским коалиция русских князей не пустила Михаила Тверского во Владимир, а сам Дмитрий подкупил ханских представителей, сопровождавших тверского князя. Михаила Тверского начали утомлять мелкие уколы, переросшие в подлинную войну. Наконец в эту войну вмешался сам великий князь Московский. Михаилу вновь понадобилась помощь Литвы. Весной 1372 г. Тверь поддержали отдельные литовские части под началом Кейстута, его сына Витовта и сына Ольгерда – Андрея Полоцкого. Однако этого не хватило, и летом 1372 г. Ольгерд был вынужден вновь идти походом на Москву. /144/
Читать дальше