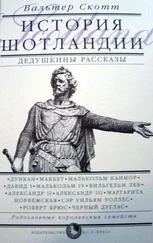Цехи выкристаллизовывались из ранее образованных ремесленнических братств взаимопомощи или создавались заново ремесленниками, не связанными с торговлей. В Литве они приобрели вполне характерные для городов Центральной Европы организацию и /582/структуры управления, их статуты и далее в точности следовали европейским образцам. У них были ежегодно избираемые старосты, кассы, в храмах стали возникать цеховые алтари, сами цехи приобретали дома для управленческих нужд. Цеховая организация вросла в структуру городского управления и стала от нее неотрывна. Появление цехов в больших городах неизбежно вело к изменению положения мещанской верхушки – условно называемой патрициатом. Если в XV в. только она одна властвовала над магистратом, то в первой половине XVI в. ей уже приходилось делиться властью с цеховым руководством, а магистраты, расширив свою социальную базу, стремились потеснить и сузить власть войтов. Еще большим влиянием цехи пользовались в «скамеечных» судах. Великокняжеские привилеи (Вильнюсу 1536 г., Каунасу 1540 г.) и судебные установления 1551 г. воспрещали войтам вмешиваться в дела магистрата, а в Вильнюсе – вызывать его членов на свой суд. Однако войты остались председателями скамеечных судов. Всё это постепенно делало войтов представителями великого князя на местах. Магдебургское самоуправление в Литве сложилось на принципе главенства конфессий. В Вильнюсе из составлявших магистрат 12 бурмистров и 24 советников католиков и православных было поровну. Соответственно распределялись ежегодно менявшиеся два действующих бурмистра и четыре советника. Главы цехов входили в магистраты, но не могли стеснить или устранить власть богатейших купцов, составлявших основу патрициата. Купеческие общины остались элитной прослойкой, организовавшейся в гильдии.
С расширением цехов рядовые цеховые мастера стали авангардом оппозиции рядовых мещан («общества») городской верхушке. Они старались изменить правила самоуправления. «Общество» добилось, чтобы в Вильнюсе из четырех городских казначеев (шаферов, или шафаров) двух избирало оно (двух других назначал городской совет). Для заслушивания казначейских отчетов купцы предлагали своих кандидатов сами, а представителей ремесел (цехов) избирал совет. Однако «обществу» удалось сформировать свою инстанцию, призванную контролировать деятельность магистрата (в Вильнюсе – коллегию «60 мужей», в Каунасе – «12 мужей»).
Могущество городских самоуправлений внешне воплотили ратуши. Функционировавшие в Вильнюсе и Каунасе весь XV в., в середине XVI в. они архитектурно обозначали городской центр и формировали всю его урбанистическую сердцевину – центральную рыночную площадь. Кстати, в Каунасе эта сердцевина обрела наилучшее вы- /583/ражение – правильную и просторную четырехугольную ратушную площадь. В Вильнюсе и Каунасе выросли импозантные ратушные здания. Они же стали эталонными камерами мер и весов. С ратушами были связаны камеры взвешивания воска и раскройки сукна. Города выхлопотали у великого князя и пропинационные лицензии (право на изготовление и продажу напитков).
Города уже стали важнейшими пунктами денежного оборота. Именно через них распространялись товарные отношения. Однако это всё еще был только начальный этап их распространения. Вильнюсский купец Матфей Рудамина мог одолжить великому князю 8000 коп грошей, а вообще единовременная торговая операция достигала всего лишь 400–800 коп. Так что крупные капиталы по существу еще не были накоплены. В период Десятилетней войны Вильнюс платил 150 коп грошей налога (и 4 поставы сукна), Брест – 100, Каунас, Гродно, Бельск, Дрогичин, Кременец, Луцк – по 50.
В первой половине XVI в. жизнь текла уже не по замкнутому руслу натурального хозяйства. Дворянские поместья никак не могли обойтись без обмена как при реализации своей продукции, так и в приобретении изготовленных для рынка городских изделий. Сеть городов и местечек формировала весь этот оборот. Структура городских поселений расслоилась по трем уровням. Верхний составили города – обладатели самоуправлений. Малые города (второй уровень), среди них и частные, как Кедайняй, располагали весьма ограниченной магдебургией или только торговыми привилегиями и образовывали отдельные административные единицы со своими войтами. Такими городами были Расейняй, Укмярге, Лида, Панявежис, Ошмяны, Шяуляй, Алитус, Мяркине, Вилькия, Пуня, Аникщяй, Велюона. Третьим уровнем были местечки, важная роль в которых отводилась земледелию. У них не было отдельной администрации, хотя жители обычно сохраняли право выхода. Города и местечки были обеспечены собственным тылом. Около 1570 г. в Вильнюсском воеводстве было 108 поселений городского типа (на каждое в среднем приходилось по 409 квадратных километров), в Жямайтском старостве – 48 (502 квадратных километра). Между тем, даже в развитых воеводствах русинских земель эти числа выглядели так: Брест – 36 (1128), Минск – 31 (1790), Новогрудок – 50 (664). Рыночные сборы, хотя и не сравнялись с пошлинами (мытом), стали важной частью государственных доходов. Хотя в местечках цехи не были созданы, это не помешало развитию и концентрации в них ремесел. Локальная ориентация ремесленни- /584/ков выявлялась и в более новых местечках. Напр., в Вирбалисе в 1561 г. были упомянуты улицы Столярная, Кузнечная, Пекарная, Бондарная, Убойная, Плотницкая, Слесарная, кстати, и Купеческая. Мещанское сословие сохранило личную свободу и право собственности. Город Вильнюс обрел совещательный (весьма ограниченный) голос в сейме. Однако мещане составляли лишь небольшую часть населения городов. Ни они, ни образующий большинство плебс не получили политических прав. Городское самоуправление фактически ограничивалось юридикой крупных землевладельцев, рассекавших своими анклавами городскую территорию. В Литве были создана сословная монархия с единственным представительным сословием – дворянством.
Читать дальше