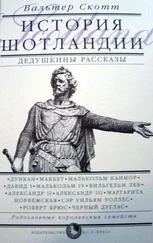До сороковых годов XVI в. из страны вывозилось еще немного зерна. Экспорт в ту пору преимущественно увеличивался за счет лесных полуфабрикатов. Великий князь отдавал большие лесные площади внаем местным и зарубежным (прусским) предпринимателям. Возрастало число предприятий, речной лесосплав превратился в важную отрасль хозяйства. Цены на древесину росли, и Литва с лихвой покрывала убытки от падающих цен на мед, воск и шкуры. Упомянутые товары, составившие основу экспорта страны в XIV–XV в., хотя еще числились среди вывозимых, однако уже не играли прежней роли. Их абсолютные величины, надо сказать, остались существенными. На рубеже второго и третьего десятилетия вильнюсская таможня за год пропускала около 15 тыс. восковых камней. За воск в 1519–1522 г. она получила 6530 коп грошей. Через Каунас в то время проходило в 10 раз меньше. Цены на зерно росли, так что торговая конъюнктура для барщинных поместий как внутри страны, так и за границей была благоприятной. Дворяне во второй четверти XVI в. окончательно превратились в хозяйствующих землевладельцев, передав первые позиции в военном ремесле своим и зарубежным профессионалам, нанимаемым за деньги.
Товарные отношения привели к тому, что из отдельных протяженных торговых путей стала формироваться дорожная сеть, объединяющая различные местности страны с рыночными узлами и корчемными точками. Денежный оборот, коснувшийся крестьянства, уже не удовлетворялся мелкими номиналами денежек и полугрошей. Сигизмунд II в 1535 г. начал чеканить литовские гроши, в годы правления Сигизмунда III Августа шкала номиналов особенно разрослась. В 1545 г. началась чеканка полудинариев, в 1565 г. – двудинариев, в 1565 г. – двугрошей, в 1546 г. – трехгрошей, в /578/1565 г. – четвериков, в 1547 г. – шестериков, в 1565 г. – монет, соответствовавших полуталерам (15 грошей) и талерам (30 грошей), в 1547 г. – золотых флоринов (дукатов), в 1563 г. – золотых португалов (10 флоринов).
Традиционно сложившиеся мыты (пошлины) перестали соответствовать объему и структуре торговли (в первом десятилетии XVI в. брали 1 грош с товарной бочки, полгроша с вола, копу грошей с 10 восковых камней, 15 грошей с мешка соли; были отдельные восковая и соляная камеры). Государство утрачивало возможность увеличения своих доходов. Плохо справляясь с контролированием таможен, великий князь позволял откупать их. На рубеже XV–XVI в. за это соперничали польские толстосумы, но уже в начале XVI в. на подобное оказались способны и литовские подданные. Луцкую таможню на три года откупил в 1505 г. тракайский войт Николай Прокопович. В 1505 г. камеры таким откупщикам стали отдавать в заклад, подобно поместьям. В 1514 г. Абрам Езофович за 4 тыс. коп грошей получил восковую и соляную камеры в Бресте. В 1529 г. брестскую таможню откупила еврейская община. В середине двадцатых годов такую монополию приобрел еврей Михаил Езофович. К брестскому таможенному комплексу относились Гродно, Дрогичин, Бельск, Каменец, Мельник, между тем как тут же, в Подляшье, находящиеся цехановская и тикоцинская камеры принадлежали к Каунасу. Во второй четверти XVI в. частная эксплуатация таможен была несколько систематизирована, расширена таможенная сеть. Большие города, особенно Вильнюс и Каунас, бдительно охраняли свое штапельное право. Ярмарки стали центральным элементом городских привилегий.
Наемный труд распространялся и в городе, и в деревне. В 1547 г. великий князь издал распоряжение о найме для Вильнюса, приказав заключать сделки утром на базарной площади. Много наемных работников требовалось для лесного дела, речного флота и ремесел в больших городах. Наем постепенно приходил на смену закладу. I Литовский статут требовал рассчитываться за долг закладом неограниченное количество раз, а II Литовский статут (1566 г.) просто требовал расплатиться за долг закладом.
Уже в 1529 г. в великокняжеских установлениях для поместий вильнюсского и тракайского поветов решалось, к каким крестьянским службам следует применять барщину, а к каким – денежную дань. Последняя характерно названа осадой (барщинным откупом), т. е. заменяла собой барщину. К этому стремились богатые кресть- /579/янские службы, что не всегда совпадало с желаниями землевладельцев. Если в фольварочных поместьях службам было разрешено откупаться от барщины деньгами, то в Жямайтии, где фольварков почти не было, денежные повинности требовалось насаждать, что привело к крестьянскому восстанию. Великий князь решил взимать деньги там, где было невыгодно применять меры для основания фольварков. Там, где они уже прижились и развивались, денежные повинности специально не вводились. Однако они возникли всюду, и это указывает, что товарные отношения в полной мере достигли села.
Читать дальше