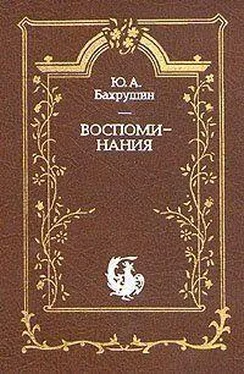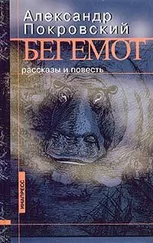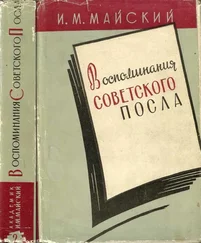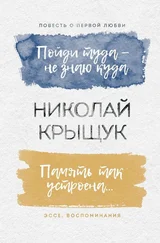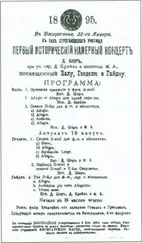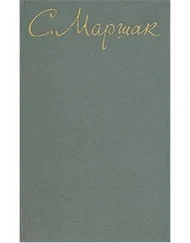Что же касается идеализации отдельных личностей, то в этом отношении я всегда предпочитал и предпочитаю думать о людях лучше, чем, может быть, они есть на самом деле. Весьма возможно, что это и неверно, но с этим я и умру.
Несколько строк о написанном мною. Предлагаемое — лишь первая часть моих воспоминаний. Для того, чтобы их закончить, надо написать еще таких же книги четыре. Удастся ли мне это — не знаю.
Ведь кто-то как-то заметил, что люди начинают писать свои мемуары в двух случаях — либо в моменты сильного нервного напряжения, как в моем случае, либо когда им от жизни уже нечего ждать, ну а я еще не сложил оружия и продолжаю ждать много интересного в будущем.
Все, о чем рассказывается в этой первой части, несмотря на незначительный срок, отодвинулось так далеко назад, что стало чем-то фантастическим и еле различимым. Это и побудило меня назвать первую книгу моих воспоминаний древним русским геральдическим термином «Из мрака времен» *.
Суровые московские дни октября — ноября 1941 года. Люди серьезны и молчаливы. Они наскоро кончают повседневные дела и забираются скорее в свои норы.
Уже смеркалось. Мы сидим в комнате у матери и пьем чай, сдабривая его ломтиками черного хлеба и какими-то доисторическими конфетами, привезенными тридцать лет назад из Ниццы и где-то случайно завалявшимися. Мать каждый раз встревоженно прислушивается, когда на улице, набавляя ход, заурчит спешащий троллейбус. Все ждут, когда начнется, — вопрос, будет или не будет, давно отпал, — известно, что прилетят обязательно. Чай давно отпит, но никто не расходится. Некуда и не к чему. Изредка наведываемся ощупью в незатемненный мрачный коридор и глядим в окно на улицу. За растрескавшимися от взрывов и пожаров зеркальными стеклами беспросветная тьма. Лишь изредка грязное осеннее небо мигнет далеким отсветом — то ли это запоздавший трамвай, то ли где-то далеко-далеко стреляют.
Наконец ночное безмолвие нарушается первыми звуками ожидаемого. Сперва — вой глухой и жидкий, затем он делается все гуще, пронзительнее, настойчивее и, наконец, доходит до истерического фальцета, до истошного надрыва. Наспех гасим свет, зачем-то на вьючиваем на себя противогазы, надеваем какие-то, специально на этот случай приготовленные верхние вещи и готовимся покидать свою нору, закопаться еще глубже. Захожу в свою комнату, осматриваю ее — быть может, вижу в последний раз — и жду мать в коридоре. Остальные уже громыхают в темноте вниз по лестнице.
Ночное небо за окном уже пестрит огненными цветами разрывов и голубыми восклицательными знаками прожекторов. Где-то глухо-глухо погромыхивает канонада. Мать собирается долго, тщательно проверяет, все ли сделано, что предписывается, молится. Наконец и она готова. Идем вниз в музей. Там в глубине тускло освещенного коридора хрипло и уже устало продолжает завывать радио-репродуктор. Замдиректора музея, поджарый, седовласый, с моложавым, породистым лицом, в боевой бекеше, отдает последние распоряжения постовым. На верхнем этаже топочут кованые сапоги поселившихся там милиционеров, хлопают двери, урчит вода в канализации. Все занимают излюбленные, насиженные места. Грязный, вонючий и лохматый пес Васька прибежал первым, как только раздался вой сирены, лапой открыл входную дверь и уже перестает нервничать в своем углу под рукомойником в уборной. На последней высокой ноте обрывается радио. Когда-то оно заговорит вновь? Начинается царство тревожной тишины. Все почему-то говорят шепотом, где-то из темноты раздается приглушенный вздох, кто-то шаркает ногой. Почему люди собираются здесь в музее — неизвестно. Тут так же опасно, как и на улице. Тем более на дворе есть щель, но ею никто не пользуется, кроме двух столяров, которые на всякий случай с вечера ложатся там спать. Но здесь приглушены все звуки, а в данных обстоятельствах звук раздражает более всего. Над городом витает смерть и грозно требует тишины — прерогативы своей власти. Но вот люди начинают перечить смерти, нарушать ее права на безмолвие, отгонять ее прочь. Вначале они делают это робко — где-то неуверенно бухают раза два, три, словно захлопывают тяжелую входную дверь. Затем трескотня делается все назойливее, увереннее, деловитее, точно ссыпают картошку в глубокий подвал по деревянному лотку. Под конец люди стервенеют — они низводят громы с небес, потрясают оконными рамами и стучат сталью по железным крышам. Как морская волна хлещет грохот по городу, но отогнать смерть не так легко… А мы в музее ждем, когда она наконец отступит.
Читать дальше