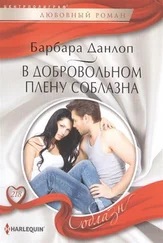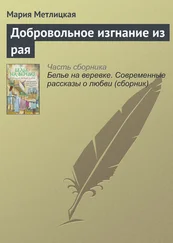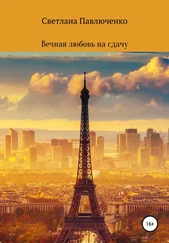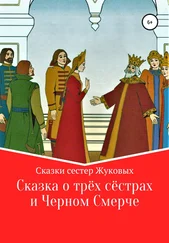Просвещенная помещица и добрый человек, Екатерина Сергеевна считает своим долгом заботиться о крестьянах. «Я не могу тебе передать, — пишет она брату, — сколь страдаю я за неимущих с тех пор, как долгое пребывание в деревне столкнуло меня со всей нищетой бедного народа, абсолютно лишенного всяких средств к жизни при плохом урожае». [273] Там же, № 16. Письмо № 157 от 20 июля 1831 г.
Во время голода она раздает крестьянам все, до последнего скирда, а когда в ее деревне вспыхивает бунт, не шлет за жандармами, просит восстановить порядок «прежде всего тем, чтоб продолжать кормить нуждающихся», забрасывает власти прошениями о помощи голодающим. «Ах, боже мой! В быстротечной жизни позволено обо всем забыть, но не о тех, которые страдают. Нищета наших деревень крайняя…» [274] Там же, № 23. Письмо без номера от 17 июля 1840 г.
Конечно, сочувствие мужикам, умиравшим от голода, не идет у Екатерины Сергеевны дальше простой благотворительности. Но ведь и на это не так уж многие были способны: другие предпочитают покупать миллионную мебель, в то время как их крестьяне едят мякину, снимают солому с крыш…
Екатерина Уварова принадлежит к высшему свету. Однако изгнанный из общества Лунин остается для нее лучшим из людей. Она не устает восторгаться им: «Сколько величия и божественного милосердия скрыто в твоем поучительном поведении… Великий бог! Какими мелкими кажемся мы здесь, позволяя себе жаловаться, роптать на упадок духа, ставший обычным, в то время как ты несешь свою судьбу с мужеством… мужеством, более редким и достойным, чем то, что позволяет пренебрегать смертью на полях сражений…» [275] Там же, № 21. Письмо № 356 от 28 февраля 1836 г.
Она восхищается письмами брата: «Я их читаю и перечитываю, я их истолковываю». [276] Там же, № 22. Письмо № 394 от 12 декабря 1836 г.
Любовь и уважение к опальному брату Уварова старается привить детям. Тщательно собирает все воспоминания, даже легенды о декабристе. В одном из писем Екатерина Сергеевна рассказывает о полковнике Кринском, некогда служившем с Луниным: он «воздал тебе хвалу столь же верную, сколь и лестную. Он сообщил Саше (племяннику Лунина. — Э. П. ), что ты не только владел польским в совершенстве, но и писал стихи на этом языке и стихи твои были таковы, что Мицкевич отнесся к ним благосклонно. Это победа, о которой ни Саша, ни я, ни ты не знали еще…» [277] Там же, № 21. Письмо № 339 от 1 ноября 1835 г.
В другом письме передаются рассказы Александра Уварова о «дяде Михаиле Лунине, пришедшие к нему с разных сторон», которые он выслушивает «с некоторым чувством гордости за свою близость к этой знаменитости — военной и даже всеобщей. Одним словом — твои дела на устах у всех, от гвардейского полка и казармы до салонов и даже дворца. Хотя я почти не знаю никого из военного начальства, но как только они узнают, что я сестра Лунина, подходят ко мне поговорить о тебе. Один служил с тобой, другой был под твоим начальством, третий служил с тем, другим, который служил с тобой, но знал тебя по устному преданию так, будто знал сам и близко. Одним словом, материалов больше чем достаточно для нескольких томов мемуаров. И должна ли я говорить тебе, что все это сплошная похвала тебе?
Каждый на свой манер, но все сходятся в одном, что Лунин — редкий человек. Это провозглашает и поэт Пушкин, и самый прозаический служака. А что касается усачей, служивших в твоем эскадроне… они плакали навзрыд, когда тебя потеряли! Славные люди! Они плачут еще, вспоминая о тебе!» [278] ИРЛИ, ф. 368, 1, № 21. Письмо № 363 от 17 апреля 1836 г.
Она думает не только о родном брате, но и о кузенах Муравьевых.
«16 декабря 1832 г. Из С.-Петербурга — в Петровский завод.
В каком волнении ожидала я решения о нашем дорогом кузене Александре! Если, как я опасалась, он готовится разделить тюрьму своего брата на поселении, тетя не простит мне этого никогда, если б я не приняла достаточно активного участия, чтобы добиться ему предоставления выбора. Я действовала без его согласия. Но посуди сам, могла ли я действовать по-другому?» [279] Там же, № 18. Письмо № 215.
…Петербург, приемная шефа жандармов, десятиминутная аудиенция — и «милостивое разрешение»: Александр Муравьев, освобожденный от каторжных работ указом 1832 г., может выбирать место для поселения в Сибири. Но слезы матери, унизительные хлопоты кузины оказались напрасными: Александр отказался от «дарованной ему высочайшей милости» и по особому и опять «высочайшему разрешению» остался в рудниках до окончания срока каторжных работ брата Никиты…
Читать дальше
![Элеонора Павлюченко В добровольном изгнании [О женах и сестрах декабристов] обложка книги](/books/209476/eleonora-pavlyuchenko-v-dobrovolnom-izgnanii-o-zhen-cover.webp)