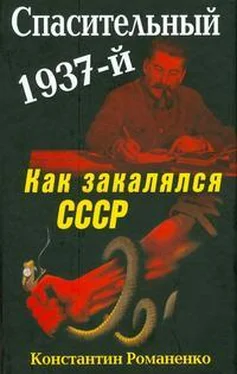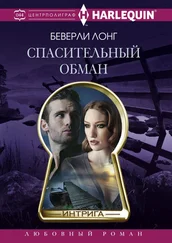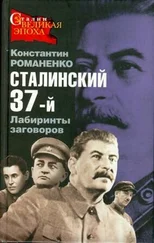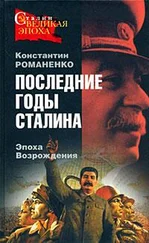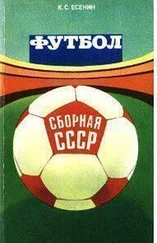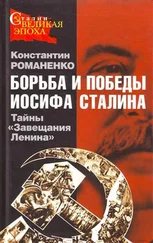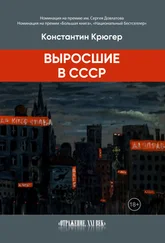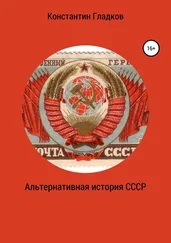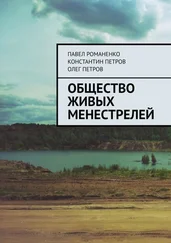В августе 1937 года вместе со всеми священниками округи был арестован ветлужский епископ Неофит (Николай Коробов), проводивший «подрывную работу, направленную на свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР». Им была создана «повстанческая организация», возглавляя которую он руководил «сбором шпионских сведений, поджогами колхозов, уничтожением колхозного поголовья». Епископ признал свою вину и 23 октября подписал протокол, а 31 октября и дополнение к нему. Поэтому 11 ноября тройка УНКВД приговорила епископа Неофита к расстрелу.
Под чистку попали и «рядовые попы», уже имевшие за плечами большой опыт «гонений». Приходской священник Александр Черноуцан впервые был арестован в 1926 году, затем неоднократно ссылался, а после ссылки служил в Арзамасе, пока в сентябре 1937 года его не арестовали вновь. Он не только признал виновным себя, но и назвал своих сообщников. Всего по этому делу было арестовано и осуждено 75 человек. 23 октября тройка приговорила Александра и еще 36 осужденных к расстрелу.
В принципе церковников, одержимых фанатичным желанием навредить советской власти, даже можно понять. Трудно понять другое. Почему имевшие убеждения «борцы за веру» сдавали на допросах своих коллег? Так, арестованный 25 июля 1937 года нижегородский митрополит Феофан (Василий Туляков), допрошенный следователем госбезопасности Мартыновым, сообщил, что он «являлся членом московского церковно-фашистского центра», по заданию которого проводил деятельность, «направленную к ослаблению мощи Советского государства и свержению Советского правительства». 31 августа Феофан подписал протокол с признанием в работе на английскую разведку. Членами центра он назвал еще 7 православных иерархов, включая «блаженнейшего» митрополита Сергия (Страгородского), ленинградского митрополита Алексия (Симанского), украинского митрополита Константина (Дьякова), а также уже арестованных на тот момент ивановского митрополита Павла (Гальковского) и управляющего делами при митрополите Сергии Александра Лебедева.
В показаниях Феофана указано: «По директивам заграничного церковно-фашистского центра необходимо было всеми путями… сеять возмущение и озлобление среди населения против Советской власти. И заниматься непосредственной подготовкой восстания, начало которого прямо связывалось с интервенцией… со стороны Германии и Японии…» [91] Яковлев А. По мощам и елей. М., 1995. С. 94–95.
Поэтому 21 сентября Феофан был приговорен к расстрелу, а 4 октября приговор привели в исполнение. К слову сказать, позже также был осужден и расстрелян и следователь Мартынов. Другому следователю, Нестерову, показания о шпионской работе Сергия (Страгородского) на иностранные государства дал осенью 1937 года и ветлужский епископ Неофит (Коробов).
Тогда же был расстрелян и другой иерарх, причисленный в показаниях митрополита Феофана к участникам «Московского церковно-фашистского центра», — митрополит иваново-вознесенский Павел (Гальковский), арестованный еще в 1936 году. У него нашли «Протоколы сионских мудрецов», как антисемитская литература, весьма популярные среди православных монархистов еще с дореволюционных времен и периодически «всплывавшие» со дна сундуков во время обысков. Но вот сам митрополит Сергий (Страгородский), на которого его единоверцы давали показания, в этой коллизии не только уцелел, но и укрепил свое иерархическое положение и стал исполняющим обязанности местоблюстителя патриаршего престола, а в 1943 году на Архиерейском соборе был избран патриархом РПЦ.
Нет, в планы Сталина уничтожение Церкви не входило. И если бы он имел такие намерения, то, несомненно, начал бы со столпов церковной иерархии. Поэтому присмотримся к этому высшему органу церковного управления. В состав Синода, избранного на Поместном соборе 7 декабря 1917 года и действовавшего до смерти патриарха Тихона, вошли 14 церковных чиновников. И то, что большинство из них умерли своей смертью, включая самого патриарха, свидетельствует о том, что законы природы распространяются и на религиозных иерархов. Причем четверо митрополитов из состава Синода 1917 года эмигрировали, окончив свои дни за границей. Архиепископ Димитрий (Абашидзе) в 20-х годах «удалился от мира», принял схиму с именем Антония и умер в Киеве уже во время Великой Отечественной войны. Архиепископ Константин (Булычев) с 1922 года ушел в «раскол» — сперва в обновленческий, затем в григорианский. Трое из митрополитов вошли в состав нового Синода 1927 года, а Сергий в итоге стал следующим после Тихона патриархом.
Читать дальше