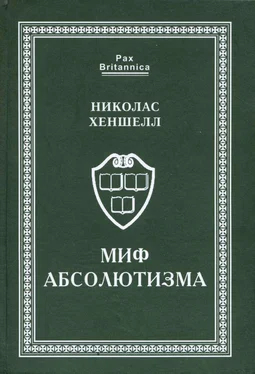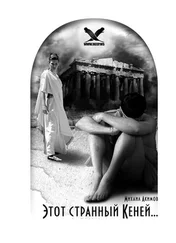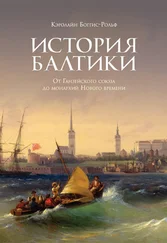1 Thompson E. P. 1977. Whigs and Hunters. Peregrine. P. 21-22.
2 Childs J. 1982. Armies and Warfare in Europe. M anchester University Press.
P. 177-191, 197.
эпохи ancien régime была государством конфессиональным и, возможно, не слишком комфортным для аутсайдеров.
Многое из вышесказанного верно и в отношении Франции, где уровень толерантности, проявляемой к гугенотам, варьировался в зависимости от времени и места. На протяжении большей части XVI и XVII столетий они имели больше гражданских прав и возможностей проводить службу, чем английские католики. До начала преследований в 1760–х и 1680–х годах гугенотов можно было видеть председательствующими в муниципальных советах, занимающими должности в двухпалатных судах (chambres mi‑parties) и важные посты в гильдиях, откупах, магистратурах, представляющими престижные профессии. Когда их права были уничтожены после отмены Нантского эдикта в 1685 году, они постепенно вернули себе прежние позиции. В 1760–х годах юный де ла Барр и старый Калас были беспомощными жертвами религиозного фанатизма: один были приговорен к вырыванию языка и отсечению головы за богохульство, а второй — к колесованию за возведение клеветы на католическую общину Тулузы. И вновь преследования проводились не правительством, а парламентом. Значение этих позорных эпизодов заключалось не просто в том, что они произошли, а в том, что они вызвали возмущение: значит, случившееся было необычным. В 1787 году Ламуаньон полностью возвратил протестантам их гражданские права, однако этот благородный жест нередко игнорируют. Гугеноты приобрели такой статус, которого не имели в тот момент ни английские католики, ни диссентеры. В 1789 году лорд Стэнхоуп безуспешно добивался отмены актов о веротерпимости и религиозных организациях. Он полагал, что если перемен не произойдет, английские диссентеры обретут большую гражданскую свободу во Франции, чем на своей родине. 1Широко распространенный миф о религиозной свободе, царившей в Англии, был вовремя развеян последними французскими министрами эпохи ancien régime.
Jarett D. 1973. The Begetters of Revolution, Longman. P. 257-258.
Большинство критиков концепции «абсолютизма» концентрировали свое внимание на деятельности органов управления. Они подчеркивали, что зачастую государям не удавалось осуществить задуманные программы. Однако, предполагая, что теория «абсолютизма» существовала, они не подвергали ее серьезному анализу. Вопрос состоит в том, была ли вообще такая теория в раннее Новое время. Мы начнем с трех основных характеристик государя, которыми оперировали в Европе раннего Нового времени: он мог называться монархом, деспотом или главой государства с республиканским устройством. Затем мы поймем, требуются ли другие термины для того, чтобы понять истинный смысл исторических событий.
Форма правления определялась конституцией, в которой были оговорены принципы распределения, процедуры реализации и пределы публичной власти. Конституции, как правило, основывались на обычае, то есть были результатом молчаливого соглашения общества относительно оптимального способа удовлетворения его коллективных потребностей. Конституции могли содержать письменные элементы, каковыми были Великая хартия вольностей и Декларация прав в английской конституции, однако их авторитет основывался на соответствии обычаю. Европейские либералы XIX века вообще не считали обычные конституции конституциями, так как принимали за образец то, что считали высшим достижением конца XVIII столетия — запись основных фундаментальных принципов государственного устройства на бумаге.
То, что до 1770–х годов письменные конституции отсутствовали, особенно важно для историков. Четкие определения источника и границ вла–сти были недоступны пониманию современников. Разногласия возникли впоследствии. Перед тем как вникнуть в его детали, нужно осознать, что конституция Бурбонов как таковая не существовала. Она представляла собой совокупность того, что люди говорили и думали по данному вопросу в этот период. Кроме того, французские монархи XVII века не делали официальных заявлений о границах и природе своей власти. Людовику XIV приписывают несколько афоризмов, в том числе и знаменитое «Государство — это я», которые можно соотнести с любой выбранной нами теорией власти Бурбонов. Его девиз гласил: «пес pluribus impar», что на языке Версаля значит «Я — величайший». Но едва ли эту фразу можно возвести в ранг политической теории. Кроме того, Людовик написал «Мемуары», однако эти советы дофину никоим образом нельзя считать систематическим трудом.
Читать дальше